Химера жужжащая
22 июля 2025 20:11
Когда мы третье-что-ли-курсниками разбирались на лексикологии с понятием семантического поля, мне, совсем желторотому, но уже переводчику, запала в душу история о словах, которые друг другом переводятся, но для носителей языка подразумевают совершенно разное смысловое наполнение. Русское "уютный" и голландское gezellig, в котором больше про приятное общение, чем про тепло и безопасность, например, или английское urgent, которое, конечно, "срочный, неотложный", но несёт в себе ещё и идею настойчивости, urgent может быть и тон, и голос, что на русский приходится переводить через другое поле.
Или, вот, по-русски по кому-то и от безделья одинаково скучают, а по-английски это разные вещи.
Русское "скучать" восходит к тому же звукоподражательному "кик/кук", от которого "кукушка" и "кикимора". Крик, пронзительный звук, плач — а от того, что милого сердцу человека рядом нет, или от того, что заняться нечем, неважно. Оттого скучать по утраченному в нашей культуре стыдновато: делом займись, чего разнылся.
По-английски же скука от безделья, boredom, от древнеанглийского borian, восходящего к протогерманской основе burōną и общему индоевропейскому корню bʰerH, означающему "бить, резать, пронзать"; у нас отсюда "бурить" и "бороть".
А когда скучают по человеку, времени или месту, тогда miss, от древнеанглийского "терять, утрачивать, терпеть неудачу". В основе там общее протогерманское missijaną "поступать неверно, промахиваться", а ещё глубже индоевропейское meyth, "менять, обменивать, убирать". К нему же восходит латинское mittere, "посылать, отправлять, отпускать".
Было — и нет.
Вот здесь же было, вот, а теперь нет, пусто.
Можно и поплакать, конечно, да толку.
Читать полностью…
Химера жужжащая
17 июля 2025 20:21
Рыбникову восемьдесят.
Я долго не понимала, почему меня с детства так разрывает каждый раз на песне Звездочёта в финале нечаевской "Красной Шапочки". Пока, много что пережив, не поняла: потому что они в раю.
Волки съели Шапочку — да не как у Перро, целиком заглотали, не повредив; нет, по-волчьи, загрызли и порвали. Крестьяне их загнали и перебили топорами да вилами, как водится. И вот, уже по ту сторону, Красная Шапочка отпускает волков. Не было, конечно, не было ничего, ступайте. Волки уходят в заходящее солнце, девочка кивает и улыбается.
Рыбников удивительно умеет позвать душу домой, так что она, очнувшись, начинает тыкаться изнутри в стены неуютного своего пристанища, и ты ревёшь в три ручья.
Каждый раз в Светлогорске я просачиваюсь за торговые ряды на улице Ленина и смотрю поверх калитки на дом Звездочёта. Там высоко-высоко кто-то пролил мо-ло-ко.
С днём рожденья, Алексей Львович.
Спасибо вам.
Читать полностью…
Химера жужжащая
15 июля 2025 12:21
Попросили перенести из Вконтактика.
Вспоминая Митту, все пишут про "Сказку странствий". Или про "Экипаж". Спору нет, "Сказка странствий" прекрасна, в ней есть то волшебное и несомненное, о чём вечно тоскует душа, что водится в рыцарских романах, легендах и сказках, сложенных во времена, когда не слыхали про стори-прастихоспади-теллинг.
Но есть же ещё "Арап", дорогие все.
Где мало того, что Высоцкий играет таки Дон-Гуана, — в отличие от швейцеровской картонной хрестоматии, где рычит и глаза пучит, но сейчас не о том — ещё и лучший Пётр отечественного даже не кинематографа, но мифотворчества.
Мы сочиняем себе и себя самих, и мир вокруг, и прошлое, и смысл, оттого и дерёмся в кровь, что сочинения не совпадают. И редко-редко удаётся счастливым даром совместить разноцветные лучи так, чтобы возник безоговорочный белый свет, для всех общий. Воинов с "Женитьбой Бальзаминова", Бортко с "Собачьим сердцем", Лиознова со Штирлицем, Говорухин с "Местом встречи", что там ещё; раз-два да обчёлся.
И, вот, Митта с "Арапом", вернее, с Петром. Потому что нельзя сделать памятник живее, точнее и теплее, нельзя быть лучше Петренко — и страшнее него, и грознее, и крепче взять за сердце нельзя. Корабли — это дети мои, за одно это.
Только там же оно не одно, там весь восхитительный лубок, с мелочами, деталями, подробностями и общим сплавом иронии и нежности, по которым так узнаёшь то, что во времена прежние называлось "Бог за сердце потрогал".
Нравится, девы? А зачем вам, Наталья Гавриловна, ножик под подушкой? Во искушение мне послан? А кто окошко-то разбил? Как это, он не желает?
И от стрелы того Амура во мне горит любви фигура, чего уж.
Читать полностью…
Химера жужжащая
11 июля 2025 15:18
У меня, как у той героини Ильфа, была последняя мечта: где-то на свете есть неслыханный разврат, то бишь, истинные специалисты, не мне, свиристелке, чета.
Но эту мечту, как водится, рассеяли. Истинные специалисты пересказывают в публичном пространстве давние записи из этой богоспасаемой тележеньки — и не краснеют. Даже цитаты из обсуждаемого текста приводят в моём переводе; более, говорят, правильном, чем устоявшийся — но чьём же, чьём?.. ах, важно ли.
Хотя, может быть, именно умение по-мольеровски взять своё добро там, где найдёшь, и отличает истинного специалиста от птиц небесных, которые не сеют, конечно, но и чужого не жнут, не собирают в житницы.
Скачут и щебечут, как бог на душу положит, мозгов-то меньше чайной ложки.
Читать полностью…
Химера жужжащая
04 июля 2025 13:28
Вы знаете, какой нынче день.
Читать полностью…
Химера жужжащая
01 июля 2025 21:26
Просто напоминаю, что у меня есть канал для рассказывания сказок. И там нынче обновление.
Читать полностью…
Химера жужжащая
20 июня 2025 13:31
Накануне солнцеворота — завтра, в 5:42 по Москве — хотелось бы направить, как это нынче называется, запрос, однако не столько Вселенной, сколько академическим коллегам-гуманитариям.
Напишите, пожалуйста, толково и научно, как вы умеете, о том, почему на излёте belle époque пост-христианские культуры резво кинулись искать великую богиню — и нашли её, и матриархат с нею, и многие верят продолжают находить. То есть, понятно, что общий пафос поисков сводится к плачу "мама, забери меня отсюда", а ещё накажи и долюби, но всё же.
Кстати о наказывании и долюбливании, запрос второй. На внятное и столь же научное исследование того, как во многом личные трудности доктора Фрейда стали той самой медицинской энциклопедией, ознакомившись с которой человечество нашло у себя всё, включая родильную горячку; в оригинале там "колено служанки", то бишь, препателлярный бурсит, но Фрейду бы понравилось.
Очень, очень нужно.
Читать полностью…
Химера жужжащая
15 июня 2025 00:25
Год за годом 15 июня, в день рожденья Уччелло, я повторяю эту запись, потому что лучше всё равно не скажу.
Паоло Ди Доно, известный более как Уччелло, — это хочется сказать на нынешний манер: Паоло "Птица" Ди Доно — написал "Ночную охоту в лесу", известную более просто как "Охота", незадолго до своей смерти в 1465 году. По какому поводу и для кого, можно только гадать.
Читать дальше.
Читать полностью…
Химера жужжащая
07 июня 2025 22:14
Из Вконтактика; не хотела дублировать, но бог с вами, нате.
Готовясь к лекции о русском Гофмане, я, понятное дело, читала бесчисленные работы о перекличках между "Счастьем игрока" и "Пиковой дамой"; с непременным трогательным наш-то вашего через сарай перекинет, но то детали.
И в какой-то гофмановский насквозь миг, в гостиничном кресле под торшером, с видом на казармы кирасирского полка, воткнулась в рассуждения уважаемого пушкиниста о том, как повторение буквы — кажется, Н — создаёт в тексте ощущение нарастающей тревоги. Приставленный ко мне немец-чорт с готовностью зажёг волшебный фонарь и явил Александра Сергеевича, считающего в черновике буквы Н: довольно ли?.. нарастает ли тревога?.. или ещё подсыпать?.. и хвостик гусиного пера покусывает в задумчивости.
Продышавшись от хохота и утерев слёзы, я, пожалуй, даже умилилась такой беззаветной вере в побуквенное выстраивание текста, в алгоритмизацию эффекта и, главное, его обратную просчитываемость. А потом вдруг поняла: Сальери же!
Так получилось, что "Моцарта и Сальери" я знаю наизусть; и "Каменного гостя" ещё. Не "Онегина", как обычно рассказывают про полулегендарных пап и дедушек, того кусками, а тут — от начала до конца, хоть под утро разбуди. И синьор Антонио с его кривой, невыносимой, безрадостной любовию к музыке (музЫке, конечно, на ы) всегда вызывал у меня род досадливого сочувствия.
Это ведь больно: понимать лучше всех, — по крайней мере, быть уверенным, что лучше всех понимаешь — чувствовать точнее, улавливать полнее — безответно. Музыка Сальери не любит. Ну, я бы тоже не стала любить того, кто разнимает предмет страсти, как труп, ну его.
В гармонии, разумеется, есть алгебра (и наоборот), но на одном знании алгебры гармонии не создашь. Бедный Сальери строит и строит свои правильные, немного тяжеловесные, но добротные сочинения, их вполне можно слушать, они хорошо продаются... а потом приходит Моцарт.
То есть, сперва приходит Глюк. Потом Гайдн. И каждый раз оказывается, что всё тщательно выстроенное — не то. Музыка опять ушла к другому, неблагодарная, хотя он всё для неё, всем пожертвовал, а она!..
А она любит тех, кому знание алгебры не ограничивает, но открывает мир. У кого алгебра жительствует, кто не боится от неё отступить, потому что знает, что это невозможно, она есть и будет во всём, что гармонично, что соединяет свободу и точность по любви, не по инструкции.
Пушкин знал.
Дыши да говори, ищи то самое слово — а буквы пушкинисты потом подсчитают, думая, что нашли формулу, пусть их.
Читать полностью…
Химера жужжащая
05 июня 2025 10:17
Если вам нужно связаться со мной по личному вопросу — канал теперь принимает сообщения. Слева внизу значок.
Но рекламу я по-прежнему не беру, никакую, даже отвечать не стану.
Читать полностью…
Химера жужжащая
02 июня 2025 19:19
Много раз уже говорила, что в переводе шекспировская намеренная сложность оказывается часто проще, чем внешняя простота. Риторику можно взять штурмом, можно вышить бисером, обойти, перепрыгнуть, подкопать... чем дольше грызёшь Шекспира, тем вернее начинаешь перекусывать арматурные прутья, пусть только подносят. А вот когда арматуры нет, когда это не заливная конструкция, но цельный, пусть небольшой, камень, раскусить-то его можно, да вот обратно срастить на целевом языке — как?
Любимое моё невыносимое шекспировское undo из таких камней. Понятно, что когда кто-нибудь в тексте undone, в переводе он будет "погиб", "пропал", ему "конец" и т.д. Там, где в оригинале голая грамматика, противоположное "сделать" и отсутствующее в русском "раз-сделать", нам надо выбрать что-то более конкретное, прибить значение гвоздями к контексту за один из оттенков, свести к нему. Now mark me how I will undo myself, произносит несчастный Ричард II, и у тебя мороз по хребту, потому что он именно что себя раз-делывает, как курицу для готовки: снимает корону, отдаёт скипетр, вырывает из сердца королевскую гордость, смывает слезами елей помазания — демонтирует короля (здесь отличники кричат: "Канторович! Канторович!"... молодцы, купите себе шоколадную медаль). А в переводе он себя "уничтожит", не тот масштаб, не та процедура. Equivocation will undo us, поднимает палец принц Гамлет; неопределённость, уклончивость, неоднозначность нас вот это вот, разложит на составные части, упразднит как целое и тем отменит — вечное "погубит" по-русски соотносится с оригиналом разве что метонимически, pars pro toto; и погубит тоже.
Оттого, когда undo стоит у Шекспира в паре с близнецом-антонимом, do, переводчик бессилен. To wish things done, undone, говорит Брут, "желать, чтобы сделанное не было сделано, было раз-сделано", поди занеси это в русский язык, да ещё в пятистопный на нём ямб. Или леди Макбет со своим What's done cannot be undone — "что сделано, того не воротишь", оно конечно, но ощущение, что у действия просто меняется знак, пропадает, а в нём весь смысл: перешли черту в одну сторону, обратно не перейдёшь, против движения времени не двинешься. Или Леонт, they would do that which should undo more doing, с этой игрой в пристенок переводчику не справиться, хоть плачь, геометрия неизбежно нарушается.
А ведь, казалось бы, просто, как три копейки, нельзя проще.
Читать полностью…
Химера жужжащая
28 мая 2025 17:11
В январе 2020 мы, утирая слёзы, вышибленные неурочным веденецким солнцем, искали возле Святой Маргариты мост, на котором стояла у Ходасевича синеглазая англичанка. И сошлись на том, что, скорее всего, вот этот, от аптеки к Пантелеймоновской церкви (да, я могу написать Сан-Панталон, но вы же первые захихикаете, как детсадовцы).
Мостов в округе три, но один ведёт в не самый туристический квартал, у другого перила сплошь металлические, нет того серого камня, на который опиралась англичанка, а здесь — пожалуйста, и тебе виды, и тебе каменные тумбы ограждения.
Зачем вообще взялись искать?
...Тогда-то
Увидел я тот взор невыразимый,
Который нам, поэтам, суждено
Увидеть раз и после помнить вечно.
На миг один является пред нами
Он на земле, божественно вселяясь
В случайные лазурные глаза.
Но плещут в нем те пламенные бури,
Но вьются в нем те голубые вихри,
Которые потом звучали мне
В сияньи солнца, в плеске черных гондол,
В летучей тени голубя и в красной
Струе вина.
И поздним вечером, когда я шел
К себе домой, о том же мне шептали
Певучие шаги венецианок,
И собственный мой шаг казался звонче,
Стремительней и легче. Ах, куда,
Куда в тот миг мое вспорхнуло сердце,
Когда тяжелый ключ с пружинным звоном
Я повернул в замке? И отчего,
Переступив порог сеней холодных,
Я в темноте у каменной цистерны
Стоял так долго? Ощупью взбираясь
По лестнице, влюбленностью назвал я
Свое волненье. Но теперь я знаю,
Что крепкого вина в тот день вкусил я —
И чувствовал еще в своих устах
Его минутный вкус. А вечный хмель
Пришел потом.
День рожденья Ходасевича нынче.
Читать полностью…
Химера жужжащая
27 мая 2025 21:31
И о любви.
Будь, пожалуйста, всегда.
Читать полностью…
Химера жужжащая
24 мая 2025 10:39
У сегодняшнего именинника Бродского в последнем из стихотворений на смерть Элиота есть обоюдоострое
Память, если не гранит,
одуванчик сохранит.
Странности падежного управления допускают здесь разночтение, которое в сети принято кодировать булгаковским "кто на ком стоял". Из контекста понятно, что у Бродского хранитель — одуванчик, он будет помнить вместе с лесом, долом и лугом, сама природа станет, да, уважительный наклон головы в сторону Горация, памятником. Нерукотворный, выстреливает хрестоматия в уме, не зарастёт; ну а то как же.
Если, однако, навести фокус именно на одуванчик, чтобы контекст размылся пятнами света и тени, — боке это называется, бо-ке — гранит и одуванчик окажутся не только субъектом сохранения, но и объектом его. И одуванчик прорастёт в памяти крепче, неистребимее официального гранита. Главою непокорной, aere perennius — как ни собирай, всё памятник получается.
Память соскальзывает с гранита, но цепляется за сорный одуванчик —
Так любовь уходит прочь,
навсегда, в чужую ночь,
прерывая крик, слова,
став незримой, хоть жива.
Оден, ещё один англоязычный автор, с которым Бродский вёл вечный диалог, писал, что стихотворение должно делать честь языку, на котором написано.
И, добавим в скобках, каждый раз как впервые озарять прямое тождество устройства языка и устройства мышления — со всеми тёмными местами, двусмысленностями и происходящими от них возможностями.
Читать полностью…
Химера жужжащая
15 мая 2025 12:23
Та самая фотография.
Читать полностью…
Химера жужжащая
18 июля 2025 20:33
Ольга Борисовна Сиротинина умерла.
Светлая память.
Читать полностью…
Химера жужжащая
16 июля 2025 21:53
Днями видела в одной московской кондитерской рекламу "лабубу из дубайского шоколада". Хмыкнула, экое бинго из трендов.
А потом вдруг поняла, кого мне всю дорогу напоминала... ло?.. ладно, эта ваша зубастая зверушка. Кролика-убийцу из "Монти Пайтона и Святого Грааля", конечно же!
Мало к чему в этом мире нельзя отыскать цитату из "Монти Пайтона".
Читать полностью…
Химера жужжащая
13 июля 2025 16:22
История о смерти князя Олега не уникальна, вспомнить хоть Одда Стрелу, — только тот не отослал коня доживать в холе и покое, сразу мечом зарубил, а то ишь — хоть тоже порубившего своего коня сэра Роберта де Шёрленда, с которым вышло ещё назидательнее: пнул конский череп, поранился, в рану попала инфекция, от неё неблагодарный и помер без всяких змей.
Мы сейчас, чур нас, не будем ввязываться в старый спор о том, насколько варяг князь Олег, не конунг ли он Хельги вообще и как таковой не одно ли с Орваром-Оддом, то бишь, Оддом Стрелой. Это пусть норманисты щиты грызут.
Однако и отрицать, что у сюжета о черепе коня северное, а именно скандинавское происхождение, глупо. Судьба как нечто непредсказуемо неотвратимое, в хорошо представленных памятниками архаических системах она именно такова — бегай не бегай, не избежишь.
И при попытке избежать она сбывается с некоторой иронией, не той, которая "скрытая насмешка" в школьных словариках, но с той, что высшая логическая красота у немецких романтиков; страшной, космической, как у Софокла. А кто сказал, что конь будет живым?
Собственно, если мы принимаем сюжет как скандинавский, конь и не должен быть живым, нужен его череп. Поскольку "череп" skall(i), а "то, что должно быть, обязательство" и, шире, "судьба, участь" — skuld. О том, что древнескандинавская поэзия строится на аллитерациях, знают даже печальные троечники, отличники могут и примеры привести:
Sól varp sunnan, sinni mána,
hendi inni hœgri um himinjódyr и т.д.
Череп и участь.
Иногда, чтобы понять пророчество, надо быть немножко поэтом — или хотя бы немножко филологом.
Читать полностью…
Химера жужжащая
04 июля 2025 13:37
Ну и для тех, кто так и не знает, какой нынче день, на бис.
Читать полностью…
Химера жужжащая
02 июля 2025 22:34
#кстатиоптичках
Как-то совершенно прекрасно, что Большая синица, самая синица из всех синиц, по-итальянски официально называется весёлой синицей, Cinciallegra.
Всех, кто вспомнил весёлую птицу синицу, которая часто ворует пшеницу, спешу огорчить: она существует только в переводе Маршака, в оригинале там, увы, крыса.
This is the rat that ate the malt
That lay in the house that Jack built.
Читать полностью…
Химера жужжащая
27 июня 2025 21:35
У тех, кого мир любит, в пятницу вечером есть жизнь, у остальных — соцсети.
Им расскажу, что первый зонтик в Эдинбурге купил в XVIII веке хирург Александр Вуд. Не себе, своему ручному ворону.
Лет дцать назад в Саратове у фонтана работал фотограф с филином, которого, разумеется, звали Филей. Как-то я встретила их под летним ливнем. Фотограф держал в руке зонтик и камеру. Под зонтиком сидел гладкий нарядный Филя, лупая оранжевыми глазами, а фотограф шёл так, усиленно моргая от текущего по лицу.
Не то на свете дивно устроено: весёлое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредёт в голову... это Гоголь, Гоголь.
Читать полностью…
Химера жужжащая
16 июня 2025 14:41
Подумала вдруг, будь на месте Гумберта Гумберта Лев Ганин, всей доводящей до белого каления борцов за молань истории Лолиты просто не случилось бы. Не была бы нужна после встречи на веранде Хейзов — но за минутное господство над озаренною душой, за умиление, за сходство... будь счастлива, Господь с тобой; не зря же Набоков так обиженно любит слегка загримированного под Кончеева Ходасевича в "Даре".
Это — вполне терапевтическое, при всем презрении автора к кушеточному анализу — пере-живание без фактического про-живания события есть и в "Машеньке", и в великом финале великой, хоть и мало читаемой "Подлинной жизни Себастьяна Найта", и в тени липовой аллеи, которой идут Фёдор Константинович и Зина к невозможному дому; дверь заперта, ключ забыт.
Читатель, как мудро заметила библиотекарша, упомянутая в дневнике Галины Кузнецовой, таких концов не любит. Ехала-ехала и не доехала!
Удивительно, как при всей тошнотворной определённости "Лолита" снова оказывается о том же опыте неуловимого.
Вернее, не удивительно нисколько.
Читать полностью…
Химера жужжащая
09 июня 2025 20:53
Русское "рутина" — привычные приёмы, методы работы, обычные для данного вида деятельности, пристрастие к шаблону; боязнь перемен, застой и т.д. — пришло через немецкий из французского, где routine означает примерно то же. В основе там ясно читается route, дорога, путь, направление, а оно в свою очередь происходит от латинского rupta via, "наезженная дорога".
Интересно, что собственно дорога, via, в процессе отвалилась, и дорога по определению стала означать нечто продолженное либо с усилием, как просека через лес, либо возникшее в результате последовательных длительных усилий; где топтали, там и дорога, принцип нового газона.
Но ещё интереснее, что в английском языке возможно выражение happy routine, означающее повторяющиеся изо дня в день действия, от которых — хорошо. Чашка кофе у окна с видом на улицу или деревья, обмен всякой ерундой в мессенджере с кем-то милым сердцу, покупка слоечки — с пеканом и кленовым сиропом, дайте две — в пекарне на углу, обед вместе по средам, прогулка в парке и ужин по пятницам.
В русском рутина не бывает счастливой, если это не нарочитая калька. Обыденность и однообразие заедают, мы скроллим ленту в поисках дофаминового вброса, ищем впечатлений и новизны.
Но мудрый аббат Суэль не просто так говорил мятущемуся нездоровому Рене, что счастье можно найти лишь на проторённых путях. Via rupta, happy routine, бывает и так.
Читать полностью…
Химера жужжащая
06 июня 2025 13:55
Русский язык вернее было бы праздновать не в день рожденья, но в день смерти Пушкина: как не стало Александра Сергеевича, так и язык нам отошёл, а до того покамест пушкинский был.
Нет, я ни в коем случае не считаю Пушкина создателем русского литературного языка, слишком люблю Ломоносова, Сумарокова, Державина — и Фонвизина! Фонвизина! — весь угловатый и задиристый строй речи осьмнадцатого столетия; то басит, то подпускает петрушку, как подросток, у которого ломается голос. Да что с того, ни Данте итальянского не создавал, ни Шекспир английского.
А вот то, что пушкинский русский нами воспринимается как абсолютный, бесспорно. Что в стихах, что в прозе он свободен — латинское absolvere, от которого происходит "абсолют", напомню, означает "освобождать, отпускать" — и точен почти магически, будто яблочко всякой мишени само возникает там, куда вонзается пущенная стрела. Отчасти так и есть, наше представление о точности и свободе речи во многом Пушкиным задано, по нему выстроено и с ним неосознанно поверяется.
И объяснить это тому, в кого не встроен пушкинский камертон, трудно — в переводе оно не выживает. Как бы ни любила я "Онегина" в переводе Фейлена, понимаю, что люблю в нём отзвук, отблеск, удачное попадание в дыхание пушкинского текста; похож, как живой. Тем, кто живого не ведает, нечего и полюбить.
В этом есть нечто по-своему прекрасное, в ловле сходства, в соприкосновении с тем, что знаешь внутри самого устройства себя, своей речи, а значит, и мышления; или наоборот, здесь от перемены мест слагаемых сумма точно не меняется.
Одно из значений absolvere — "растворять". То, что не нуждается в твоём подтверждении, растворено во всём, в тебе тоже, и ты, узнавая его поминутно, подтверждаешь, называя это парадоксом или чудом.
Чем бы ни было, свято место пусто не бывает. Сегодня — Пушкин и его наш язык.
Читать полностью…
Химера жужжащая
03 июня 2025 19:49
Стоило помянуть шекспировское undone, застучал опять в голове монолог Елены из All's Well That Ends Well, который весь из этого undone растёт, как из зерна. Удивительный текст, разбитый надвое сочной ренессансной похабщиной, разговором с Паролем о девственности, он в результате спрессовки полярностей взлетает и падает такой тахикардической кардиограммой, что только держись. Чтение Шекспира вообще есть практика сугубо телесная, оно заставляет тебя дышать по-своему, задыхаться, как надо, перехватывает частоту сердечного сокращения, затягивает вас с речью друг в друга, в узел, так что уже слова начинают тобой дышать, тобой теплеть, а ты раскаляешься добела от их движения горлом и сосудами.
Перечисляя тысячу любовей, которую найдёт Бертрам при дворе, Елена впадает в модус, традиционный для ренессансной поэзии, от учёного средневековья перенявшей любовь к спискам, перечням, низанию семантических жемчугов, упорядочению мира через именование, — а как ещё его пережить-то? — но не столько от ума, сколько от любовной тоски, от того, что молчать физически больно. Там, на недосягаемой орбите, Бертрама ждёт целый мир прелестных ласкательных имён, которыми нарекает жмурящийся болтун Купидон:
A mother and a mistress and a friend,
A phoenix, captain and an enemy,
A guide, a goddess, and a sovereign,
A counsellor, a traitress, and a dear...
В переводе Донского — хорошем! — это всё превращается в усреднённо-пиитическую шелуху:
"Владычица", "возлюбленная", "друг",
"Губительница", "госпожа", "царица",
"Изменница", "волшебница", "богиня" и т.д.
А у Елены-то "мать, госпожа, друг, феникс, капитан (да, "глава" любого рода, но прежде всего "командир"), враг, проводник, богиня и суверен ("владычица" слишком общо, здесь именно монаршая верховная власть), советник, предательница и милая" — совсем другой строй именования дамы, с отчётливым уклоном в сторону войны и власти, без которых невозможна речь о любви в шекспировское время; но и высокая мистика, феникс, классическая женская эмблема, поскольку птица женского рода в родном языке любовной поэзии Ренессанса, итальянском.
И это ведь ещё завораживающей красоты звучание: a guide, a goddess and a sovereign, чередование заднеязычных и переднеязычных, передача пульсации от горла к кончику языка, с прикусыванием губы и финальным звоном в sovereign.
Пьеса не первого ряда по общему мнению, не "Гамлет", чай.
Читать полностью…
Химера жужжащая
01 июня 2025 15:10
Несколько лет назад, в жизни уже, наверное, позапозапрошлой, я готовила лекцию под условным названием "Шекспир этого не говорил" — о том, как фрагменты переводов, часто сделанных под углом к оригиналу, вскользь, а то и поперёк, зажили в русском языке своей жизнью на правах цитат из Шекспира. Потом грянула жизнь позапрошлая, потом вовсе, лекцию я так и не прочла; если таковую прочтёт кто из расторопных коллег, вы будете знать, чем он вдохновился, не впервой, но сейчас не о том.
Одним из примеров, разумеется, должен был стать весьмиртеатр, который даже в песню попал, и все мы в нём актёры.
Ещё в просеминаре, на втором курсе, страшно сказать, сколько лет назад, я писала работу о многозначности и многоуровневости понятия "игра" у Шекспира, о том, что есть game, а есть play, о том, что play — это и глагол, и существительное, и о других, как водится, различных вещах. Поэтому скучным зелёным голосом перескажу то, что принято писать в примечаниях к сцене из "Как вам это понравится", седьмой второго действия, где как раз мир уподобляется театру.
Да, на флаге "Глобуса" был девиз Totus mundus agit histrionem, "Весь мир лицедействует", цитата из Петрония, и, да, Шекспир здесь обращается к любимой метафоре Ренессанса, — жизнь как спектакль, жизнь как игра — которая есть хоть у Эразма Роттердамского, хоть, жизнь есть сон, у испанцев. Здесь следует упомянуть пролог к "Укрощению строптивой" и эпилог, который произносит Пак в "Сне в летнюю ночь", а также монолог Просперо, упомянем же их.
Дело, однако, в том, что никакого канонического весьмиртеатр — вы, кстати, как это произносите, "весь мир теат" или "весь мир театыр"? это серьёзный вопрос, замкнутость/незамкнутость строки в шекспировском ямбе бывает значима — у Шекспира-то и нет.
О театре говорит Герцог Жаку после несостоявшегося разбоя и ухода Орландо:
Thou seest we are not all alone unhappy.
This wide and universal theater
Presents more woeful pageants than the scene
Wherein we play in. — Видишь, не мы одни несчастны. Этот обширный вселенский театр представляет и более печальные зрелища, чем сцена, в которой играем мы.
И Жак отвечает:
All the world’s a stage,
And all the men and women merely players. — Весь мир — подмостки, и все мужчины и женщины всего лишь актёры.
За чем следует знаменитый монолог о том, что каждый выходит и уходит в свой черёд, и каждый играет несколько ролей, по возрастам.
Я нарочно дала подстрочник, чтобы разделить theatre, "театр" и scene, "сцену" как часть драматургического текста у Герцога, и stage "сцену" как подмостки у Жака. В русских переводах, так уж получилось, они подменяют друг друга и сливаются воедино, а ведь различие есть, и оно не пустячно.
Если весь мир занят лицедейством, это одно; если мир — обширный театр, сама вселенная есть действо — это другое; если же мир — сцена, это уже третье. Социальные практики, описанные в старомодном духе зерцала, довольно общее место современной автору философии, и уточнение, открывающее новую тему. Потому что к сцене автоматически прилагается зритель. Кто-то смотрит на то, как мы тут играем, кто-то может оценить игру и, усмехнувшись, шепнуть соседу:
Lord, what fools these mortals be!
Читать полностью…
Химера жужжащая
28 мая 2025 13:01
У меня есть маленькая филологическая слабость: маньеризм официальной речи. Все эти "сдвиги вправо", "кратное увеличение", "уважаемые жители" вместо положенного "жильцы" в объявлениях об отключении горячей воды и пр.
Нынче обрела прекрасное:
"В связи с плановыми ремонтными работами на оборудовании будет снижена надежность электроснабжения".
Раньше это называлось "возможны перебои", но поэты жилкомхоза ищут новые формы.
Читать полностью…
Химера жужжащая
27 мая 2025 00:22
Увидела в ленте, как бриг "Россия" в парадной форме идёт по Неве, и вспомнила, как несколько лет назад бежала по Миллионной, — в парализованном экономическим форумом городе такси могло подъехать только к Марсову Полю — глянула влево, и в створе Мошкова переулка встали вдруг огромные, раздвигающие мир алые паруса.
Меня всегда цеплял этот момент у Грина, как ранка во рту, которую не можешь не трогать поминутно языком: Ассоль читает у окна, стряхивает жучка со страницы и видит над крышами Каперны белый корабль с алыми парусами. "Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения".
Здесь надо сказать, что "Алые паруса" у меня с тех самых пор, как мама, увидев на уличном лотке Приволжского книжного издательства книжку в бумажной обложке, сказала: "О, вот это тебе надо прочитать", — и книжку купила, — сколько мне было, одиннадцать? двенадцать? — с тех самых пор, как я в тот же день свернулась на диване с яблоком и Грином, и яблоко проржавело насквозь, едва надкушенное, потому что я про него забыла, ахнувшись с головой в текст, с тех самых пор, да закончи уже этот период, сколько можно, "Алые паруса" у меня — не пралюбофь. Не про то, как девочка ждала-ждала принца на белом коне корабле да и дождалась.
Это про то, что тебе обещано: однажды мир изменится, вот этот мир, который ты живёшь в полусне, роешь сквозь него ходы и норки, смутно осознаёшь его углы и выступы, ссадины от них, сорванные ногти, саднящие глаза, отмечаешь мимодумно его красоту... этот мир перестанет. Отблеск того, что будет после, и даёт силы дышать, и подсвечивает здешнюю красоту, и вообще — это ты, без него тебя нет.
Если это про любовь, то, скорее, Амура и Психеи, чем ту, что лежит в основе здоровых зрелых отношений — курсив мой, выстраданный.
Когда там душа проснётся полностью и сядет среди богов, когда за ней придёт белый корабль с алыми парусами, кто знает. Что-то временами веет в воздухе, складывается в игре света, припоминается, но, возможно, предсказания нужно толковать апофатически, экзегеза — дело такое. Возможно, это про жизнь вечную, стирай и развешивай бельё, клей свои игрушки, таскай их в город на продажу, жди отца из рейса, пропускай привычно мимо ушей, что кричат в спину земляки.
А потом однажды поднимаешь глаза — и в створе переулка над крышами стоят алые паруса, и мир схлопывается, прекращаясь, и падает сердце.
Скрипка там, или труба, не так важно. Главное, чтобы не кларнет из бакелита.
Читать полностью…
Химера жужжащая
19 мая 2025 15:01
Во второй сцене пятого действия Гамлет, рассуждая о смерти, говорит, The readiness is all. Мы эту реплику помним по Лозинскому, "готовность — это всё", или по Пастернаку, "самое главное — быть всегда наготове".
Но у Полевого, в самом популярном переводе XIX века, который, собственно, и был долго главным русским "Гамлетом", иначе: "Быть всегда готову — вот всё".
Будьте готовы!
Всегда готовы, ваше высочество.
По поводу дня пионерии вспомним давнее о готовности и о воробьях принца Гамлета.
Читать полностью…
Химера жужжащая
15 мая 2025 12:22
Если без дежурных речей, придётся сказать, что Михаила Афанасьевича я люблю так полно и без изъятия, как любят только трёхмерных своих, да и то редко.
Люблю вот эту неистребимую, от юности, от записок в стихах родным и друзьям идущую способность тихо валять дурака, превращать обыденность в гротеск, в игру, в действо. Он и пишет так же, пишет всегда, от фельетонов до больших романов — сгущая мир, задирая контрасты, как не снилось караваджистам, и все краски загораются витражом на просвет, и у тебя, читающего, каждая клеточка электризуется, переполняется жизнью. Здесь надо сделать литературоведческое лицо и произнести специальным голосом резиновое слово "экспрессионизм", но экспрессионистов как грязи, а счастье — только тут.
Весь ритм и строй моей речи от него, по нему ставилось само собой дыхание, им кодировался любой опыт... про театр что и говорить, кто работал в театре, кто хотя бы знает его со служебного входа, не может не ощутить себя рано или поздно Максудовым, слишком точно очерчен магический круг, невольно встаёшь в его центре.
Но есть и то, что стоит проговорить отдельно.
Булгаков в нашей литературе ХХ века — один из немногих заякорённых в человеческой нормальности. Фантасмагорию и ужас бытия, кошмар истории он видит глазами человека, знающего, что есть — хотя бы было, хотя бы можно немножко надеяться, что будет снова — иное, есть мир, который не прокручивает тебя в мясорубке, не зажёвывает в зубчатые передачи не-человеческого.
То, чем Булгаков вонзается мне в самое сердце, — его осознанная бездомность; осознанная и иронически отрефлексированная в псевдониме Ивана Николаевича. Я родилась в коммуналке, я жила там достаточно долго, чтобы заметить, запомнить на будущее всё: и убожество, и уродство, и руины другого существования, на которых всё это строилось. Медового оттенка паркет в нашей большой, в два окна, комнате; ванна на львиных лапах в ванной на пять семей; приснившейся красоты латунная дверная ручка, её растительный изгиб; якоби живой.
Пропал калабуховский дом.
Уберите свои марксистские методички, не работают, это не жалоба привилегированного класса на оскудение привилегий. Это человеческая и не-человеческая тоска по дому, где всё так, как единственно верно, как совпадает со счастливой памятью, хотя бы платоническим припоминанием; по целостности мира и своему полноправному месту в ней, по раю, в конце концов, который душа носит в себе и всё прикладывает к местам и людям — а вдруг?.. ну вдруг, ну зачем-то же оно живёт внутри, не для вечной же муки.
На любимой моей фотографии Михаил Афанасьевич, из-за плеча которого выглядывает Любанга, ведьма и соучастница всех игр, смотрит именно так: а вдруг?.. Без особой надежды, как все мы, кто не родился с серебряной ложкой во рту, но всё-таки — вдруг?
От исписанных изразцов и абажура Турбиных до примёрзшей к полу мочалки, от берегов священных Нила до самогонного озера, от раковины и отдельного входа до вишен и Шуберта, душа знает, где её дом — его нет.
Читать полностью…
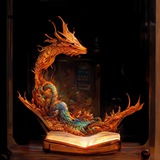
 9459
9459