Химера жужжащая
11 октября 2024 12:16
Пора, пора вводить тэг #кстатиоптичках, потому что я явно не перестану писать об удивительных приключениях названий птиц. Были уже кукушка, ястреб и сорока, а нынче будет орёл.
Русское "орёл" происходит от протославянского *orьlъ, восходящего к реконструированной индоевропейской основе *h₃érō — как и протобалтийское *arélis, и протогерманское *arô, и, собственно, греческое őρνεον, и означают они все "большая птица, орёл". Логично, орёл — самая большая птица в Евразии, по-гречески "орёл", орнеон, и "птица", орнис, вообще однокоренные. Как в известном анекдоте: "Птица. — Орёл? — Нет. — А кто?".
В древневерхненемецком эта общая для индоевропейских языков основа даёт Aar, от которого происходит нынешнее немецкое Adler (путём слияния edel, "благородный" и Aar, собственно "орёл", в раннем средневековье, когда Aar начинает означать всех хищных птиц, которых используют как ловчих, и требуется уточнение; "Благородный? — Нет. — А какой?"), голландское arend, норвежское и датское ørn, шведское örn и т.д. Но тут в чат врываются романские языки.
Итальянское aquila, испанское и португальское águila, французское aigle, в английском давшее eagle, потеснившее исконное древнеанглийское earn, естественно, восходят к латинскому aquila, а дальше начинается любезная сердцу любого лексиколога кадриль. Куда орёл велик и страшен улетел в латыни от индоевропейских корней? "Этимология неясна, — делают умное лицо учёные, — но предположительно aquila родственно aquilus, "тёмный, мрачный", поскольку у орла тёмное оперение". Очень хорошо, но aquilus у них происходит от Aquilō, Аквилон, северный ветер, а тот, в свою очередь, от aqua, вода; Михиль Де Ваан в своём словаре вообще предлагает обратную версию: aquilus от aquila, цвет от орла, и все они — от aqua, вода. То есть, если применить бритву Оккама и сократить бессмысленные последовательные связи, латинский орёл связан с водой.
И это совершенно понятно, потому что для жителей морского побережья, не высокогорья и не степей, орёл — это по определению орлан-белохвост, Haliaeetus albicilla. Собственно, Haliaeetus в названии вида и есть "морской орёл", от греческого 'αλίη, "морской" и ἀετός, как и őρνεον, "орёл"; восходит ἀετός к индоевропейскому *h₂éwis, в латинском ставшему avis, и значит, вы удивитесь, "птица". По-английски орлан-белохвост так и называется, sea eagle — а ещё erne или ern, то самое древнеанглийское "орёл", уступившее заимствованному из французского eagle.
Птица — это орёл, а орёл — это тот, который в море. Язык, как водится, сохраняет всё поле значения, не только словарное.
Орлана-белохвоста вам, задумавшегося.
Читать полностью…
Химера жужжащая
05 октября 2024 00:26
#осеннее_ночное_радио нынче снова обращается к Генделю — много не бывает.
Леа Дезандр и её ангелы-хранители, Guardian Angels, Oh Protect Me из "Триумфа Времени и Правды", Jupiter Ensemble Томаса Данфорда, сам он с лютней, как всегда.
Читать полностью…
Химера жужжащая
02 октября 2024 21:44
Вот литературный герой. Эксцентричен, ни на кого не похож, особых социальных связей не поддерживает, разве что дружит с хорошим и честным молодым человеком. И ещё была в его жизни женщина сложной судьбы, но он поспособствовал её браку с другим. Карает преступников, склонен к представлениям с переодеваниями и гримом, наделён артистическим складом ума, окружающий мир знает причудливо и избирательно. Характер нордический В быту небрежен. Курит трубку.
— Шерлок Холмс, Шерлок Холмс!.. — радостно кричат все.
Ан, Карлсон.
Читать полностью…
Химера жужжащая
30 сентября 2024 12:59
Какой день переводчика без охотничьих рассказов.
В одном из любимых моих текстов фигурировала пустая бутылка, которую со словами even in paradise dead men to hide совали в сундук. Покойников со стола, классика отечественного застолья — тем более, что в сундуке по сюжету лежал труп.
Но мне был придан издательством Редактор С Огромным Опытом, который, так случилось, присловья про покойников по-русски не знал. И оттого предложил мне над фразой "поработать". Здесь, учил РСОО, нужно найти какое-то изящное решение, возможно, что-то про "пустые хлопоты/пустую тару", лобовой вариант плох, что за "покойники", читатель не поймёт и т.д. Позвольте, жалобно пропищала я в ответ, но ведь пустая бутылка — это "покойник" и есть, зачем что-то изобретать?
— Я такого значения не знаю, — отчеканил РСОО. — Да и вам стыдно знать!
Чувствуя себя безнадёжным забулдыгой, я призвала рассудить нас главу издательства, и тот повелел:
ПОКОЙНИКОВ — СО СТОЛА.
Читать полностью…
Химера жужжащая
28 сентября 2024 21:59
#осеннее_ночное_радио и немного нежной задумчивости от Франческо Гаспарини и обожаемой Роберты Инверницци.
Пишу тебе, о возлюбленное имя, как некогда любовь стрелой своей начертала в моей груди... и прочая лирическая чушь, которая что-то значит, лишь когда согрета дыханием.
Читать полностью…
Химера жужжащая
27 сентября 2024 02:22
#осеннее_ночное_радио под утро даёт немножко Телемана, адажио из ре-мажорного концерта для трубы TWV 51:D7. Я с этим, даст бог, усну, а большинство из вас начнёт день с чего-то хорошего.
Элисон Болсом, божественная, и Balsom Ensemble.
Читать полностью…
Химера жужжащая
18 сентября 2024 00:19
В своё время любимый френд рассказал, что дети из ПНИ просили принести из мира коробочку: положишь в неё что-нибудь, листик липовый, закроешь — хоть какое своё пространство в насквозь просматриваемом мире, где не уединишься и не спрячешься. О коробочке такой вечно просит что-то внутри, hospes comesque corporis, что-то, чему безысходно невыносима именуемая жизнью действительность.
И, Бах милостив, коробочку иногда дают.
#осеннее_ночное_радио
Читать полностью…
Химера жужжащая
12 сентября 2024 21:04
Самый древний храм Аполлона, как говорят, был выстроен из лавра, и сучья лавра были доставлены от деревьев, растущих в Темпах. Этот храм по внешнему виду скорее можно было бы назвать похожим на лачугу. Затем, по словам дельфийцев, второй храм возник благодаря пчелам, из пчелиного воска и крыльев; говорят, что этот храм был послан Аполлоном к гипербореям.
Павсаний, "Описание Эллады", книга Х. Фокида, V,5.
Гиперборейский навык строительства из веток, мусора и клейких субстанций.
Читать полностью…
Химера жужжащая
09 сентября 2024 15:52
В нездоровье, с телефона — комп умер, сейчас спецы пытаются данные спасти — сшила очередную лоскутную сказку.
Пусть и тут побудет.
Читать полностью…
Химера жужжащая
31 августа 2024 22:09
Весь мир против, но #осеннее_ночное_радио возобновляет свою работу.
Танец медведей из "Каллисто" Франческо Кавалли, входим в осень.
Читать полностью…
Химера жужжащая
25 августа 2024 11:10
Набоков, как известно, прописал в истории русской литературы фрагмент из грамматики Смирновского, взяв его эпиграфом к "Дару". Там, кстати, в исходнике после неизбежной смерти в § 10 ещё много прекрасного, глядите картинку, в том числе судья, который судит, заики Фома и Анна, и с чеховскими лошадьми, кушающими овёс и сено, перекликающийся последний абзац. Он заканчивается так округло, — "в сутках 24 часа" — что веет почти великим финалом "Буколик", venit Hesperus, ite capellae; мир замыкается сам на себя, сам себя подхватывает, как нить в вязании, и не кончается строка, и т.д. Впрочем, все эти рассуждения отталкиваются, конечно, от набоковского текста, не от дореволюционного учебника — малые карты, преображённые лучом козыря, если вернуть ВВ с поклоном однажды у него найденное.
Здесь уместен разговор о значении, которое всегда из материала заказчика. Думаю, Набокову пришлось по душе это сочетание стёршейся в повторении общеизвестности и возможности в ней смыслового развёртывания, как писали прежние лингвисты, набор слов-клавиш, активирующих свободные ассоциации в говорящем по-русски уме.
Играть на них можно бесконечно, это упражнение на беглость пальцев и проективный тест.
Перебирать слова, как чётки:
Смерть — дерево. Смерть — цветок. Россия — птица. Роза — наше Отечество. Смерть — наше Отечество. Россия неизбежна.
Взбалтывать и смешивать их с подобными конструкциями:
Берёза — тупица, дуб — осёл, речка — кретинка, облака — идиоты, лошади — предатели, смерть неизбежна.
Или, для отчаянных, так:
Чиж — тики-тики,
Чиж — тики-рики,
Чиж — тюти-люти,
Чиж — тю-тю-тю!
Смерть неизбежна.
Всё, попадающее в голову, мы обволакиваем собственным перламутром, как жемчужница болезненную песчинку.
Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Сильна, как Отечество, речь, и неизбежна, как смерть, память, и невозможно одно без другого.
Читать полностью…
Химера жужжащая
03 августа 2024 14:00
От второй жены Булгакова, Л.Е. Белозерской, мы знаем, что Михаил Афанасьевич изобрёл кошачье письмо, жанр, необычайно популярный в сети — ну, люби мои облюбочки, как говорится:
"У меня сохранилось много семейных записок, обращенных ко мне от имени котов. Привожу, сохраняя орфографию, письмо первое. Надо признаться: высокой грамотностью писательской коты не отличались.
Дорогая мама!
Наш миый папа произвъ пъръстоновку в нешей уютной кварти. Мы очень довольны (и я Аншлаг помогал, чуть меня папа не раздавил, кагда я ехал на ковре кверху ногами). Папа очень сильный один все таскал и добрый не ругал, хоть он и грыз крахмальную руба, а тепър сплю, мама, милая, на тахте. И я тоже. Только на стуле. Мама мы хочем, чтоб так было как папа и тебе умаляим мы коты все, что папа умный все знаит и не менять. А папа говорил купит. Папа пошел а меня выпустил. Ну целуем тебе. Вы теперь с папой на тахте. Так что меня нет.
Увожаемые и любящие коты".
Посмеялись, порадовались.
А это Василий Грязной пишет в 1572 году Ивану Грозному — Государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русии бедной холоп твой полоняник Васюк Грязной плачетца — из плена:
"А нынече молю Бога за твое государево здоровье и за твои царевичи, за свои государи; да еще хочю у владыки Христа нашего Бога, чтоб шутить за столом у тебя, государя, да не ведаю, мне за мое окоянство видат ли то: аще не Бог да не ты поможешь — ино некому. Да в твоей ж государеве грамоте написано, кое ты пожалуешь выменишь меня, холопа своего, и мне приехав к Москве да по своему увечью лежать, — ино мы, холопи, Бога молим, чтоб нам за Бога и за тебя, государя, и за твои царевичи, а за наши государи, голова положити: то наша и надежа и от Бога без греха, а ныне в чом Бог да ты, государь, поставишь".
Кот Аншлаг, сын кошки Муки, назван так в честь триумфа "Зойкиной квартиры" в 1926. Женаты Л.Е. и М.А. были до 1932 года. Над "Иваном Васильевичем" по общему мнению Булгаков начал работать в 1934.
Да ладно.
Читать полностью…
Химера жужжащая
15 июля 2024 17:54
Этот довольный собой молодой человек — Мартен Солманс, богатый жених. Парадный ростовой портрет, из которого я вырезала фрагмент, чтобы виднее было роскошный кружевной воротник и складки плаща; на парном портрете, разумеется, невеста, Опьен Коппит.
Но если, спасибо возлюбленному Рийксмюсеуму, ткнуться в холст носом, станет видно, как устроен богатый наряд Мартена: кружево — не кропотливая вязь белого на чёрном, но быстрый разбег кисти, чёрным по белому. Атлас — такой же стремительный проход белым по чёрному, словно снег в ночи летит.
Шаг назад — магия, шаг вперёд — как она работает. Работает же, хоть сто раз пойми, из чего состоит.
С днём рожденья Рембрандта нас.
Читать полностью…
Химера жужжащая
07 июля 2024 20:02
Читатель помнит всё, в том числе и то, что я в комментах под записью про ястреба нежного обещала рассказать про сороку — и не рассказала.
Итак, про сороку.
Любознательный молодой человек спросил, почему сорока по-английски "пирог", вычленив в magpie собственно pie. Это как раз несложно, pie здесь не пирог, а видоизменившееся через старофранцузский латинское pica, сорока; в официальной номенклатуре Сорока обыкновенная — она же европейская — и сейчас именуется Pica pica. К той же индоевропейской основе, реконструируемой как *(s)peyk восходит латинское название зелёного дятла, Picus, то есть, они с сорокой практически тёзки.
Но c середины XIII века до конца XVI сороку по-английски называли просто pie, первое употребление именно magpie зарегистрировано в 1598 году. Популярные источники объясняют такое изменение тем, что к названию птицы приклеилось уменьшительное от Маргарет, Mag, потому что, дескать, так называли болтливых женщин; в пользу этой версии приводят и то, что во Франции разговорное название сороки и болтушки тоже связано с именем Маргарита — Margot; хотя сорока по-французски и официально называется "болтливой", Pie bavarde.
Имя Margaret, как и французское Marguerite, восходит через латинское Margarita к греческому μαργαρίτης и персидскому "мурварид" — всё это означает "жемчужина". В Средние века это одно из самых популярных женских имён в Европе, о чём говорит хотя бы то, сколько у него уменьшительных вариантов: и Грета, и Мардж, и Меган, и Рита — это всё Маргариты; а ещё Го, Дейзи, Магали, Марджери, Молли и Пегги, как ни удивительно. И, разумеется, Марго, Мэг и Мэгги, признанные болтушками.
Это значение настолько закрепилось за диминутивами имени Маргарита, что в английском языке с 30-х годов XV века существует выражение magge tales — "чушь, россказни, бабьи сказки". Какое отношение жемчуг имеет к болтливым тётушкам?
Да никакого.
Если чуть покопаться в корпусе среднеанглийского, обнаружится, что выражение это не сразу приобретает окончательный вид. Встречается и вариант maged tale, и, самое раннее, в 1387 году, magel tale. Всё это — производные от среднеанглийского глагола maglen или megglen, означающего "бить, рубить, кромсать" и происходящего от среднефранцузского названия кайла и тяпки виноградаря, maigle; в современном французском meigle или mègle. То есть, у нас языком мелют или молотят, а в средневековой Англии — бьют, как кайлом или тяпкой.
Где-то в начале XV века в результате созвучия magge слилось с Maggie, и появилась болтушка Маргарет, а за ней и сорока-болтушка. Как там они в ходе Столетней войны смешались с французской Марго, не уследишь, котёл общий.
В наших, кстати, деревнях сороку звали и вовсе уполовником. Бела как снег, зелена как лук, черна как жук, повёртка в лес, а поёт как бес — всё она.
Читать полностью…
Химера жужжащая
04 июля 2024 22:29
Читатели впечатлились историей о зверинце Данте Габриэля Россетти, просят подробностей.
Что вам сказать.
Прерафаэлиты вовсе не были такими малокровными меланхоликами, какими могут показаться, если смотреть на их картины с томными дамами. Нет, то была компания бунтарей и оторв, истинная бешеная богема со страстями и странностями.
В 1862 году Россетти переехал в просторный дом в Челси, на Чейн-Уок, — именно там изысканный Элджернон Чарлз Суинберн катался голышом по перилам — и, наконец, смог устроить в саду зверинец своей мечты: броненосцы, кенгуру, попугаи, павлины, енот, который впадал в спячку в комоде... Россетти пытался сторговать слона, но тот стоил почти четверть их с сестрой годового дохода, дороговато. А вот вомбата сторговал.
Вомбатами Россетти был одержим с тех пор, как увидел их в зоосаду Риджентс-Парка. Он назначал друзьям встречи возле их вольера, он изрисовал вомбатами закрашенные окна библиотеки в Оксфорде, где расписывал стены артуровскими сюжетами, он изобразил вомбата на фронтисписе поэтического сборника сестры Кристины; впрочем, в стихах вомбат упоминается, повод был. Своего вомбата Россетти назвал Топом, в честь Уильяма Морриса, чьё университетское прозвище было Топси. В жену Морриса Джейн Россетти был страстно влюблён, но это детали.
Судьба Топа печальна: викторианские ветеринары просто не умели лечить экзотических зверей. Россетти очень горевал.
"Вомбат — это радость, триумф, наслажденье, безумье!" — писал он о своих любимцах.
Фронтиспис сборника Кристины Россетти, вон вомбат, в верхнем ряду.
Читать полностью…
Химера жужжащая
10 октября 2024 18:03
Между тем, у нас с любимой Калиниградской областной научной библиотекой новый сезон.
Читать полностью…
Химера жужжащая
04 октября 2024 22:53
Христофор (Кристофер) Бэрроу, "Грамота её королевского величества к шаху Тахмаспу, великому Суфию Персии, посланная с Артуром Эдуардсом, Уилльямом Тэрнбуллем, Матвеем Тейльбойсом и Петром Гаррардом, назначенными агентами Московской компаний во время шестого путешествия в Персию, начавшегося в 1579 г.":
"Выехав оттуда, они прибыли в Увек, расположенный на крымской стороне (на западном берегу Волги), 5 октября около 5 часов утра. Это место считается на полдороге между Казанью и Астраханью. Там растёт большое количество солодкового корня; земля очень плодородна. Находят там яблони и вишневые деревья. Широта Увека 51° 30'. На этом месте стоял прекрасный каменный замок, по имени Увек; к нему примыкал город, который русские называли Содомом. Город этот вместе с частью замка был поглощен землей по божьему правосудию за беззаконие обитавших в нем людей. До сего времени можно ещё видеть часть развалин замка и могилы, в которых как будто были похоронены знатные люди, ибо на одной из могил можно еще рассмотреть изображение коня с сидящим на нем всадником, с луком в руке и со стрелами, привязанными к его боку. Был также там на одном камне обломок герба с высеченными на нем письменами; часть их истреблена непогодой, а часть остается в полуразрушенном виде. Однако очертания букв ещё сохранились, и мы сочли их армянскими. Мы нашли высеченные письмена и на другой ещё могиле".
Яблони, вишни и поглощённый землёй за беззаконие жителей город Содом — за десять лет до основания Саратова на том же месте.
И почему я, как говорится, не удивлён.
Читать полностью…
Химера жужжащая
01 октября 2024 21:05
#осеннее_ночное_радио сегодня передаёт немного Перголези — в качестве дыхательного упражнения, как я это называла обычно в прежние времена. Lieto Così Talvolta, ария Фарнаспа из первого действия "Адриана в Сирии".
Великая и ужасная Симона Кермес тут — сладчайшая из сирен, восхитительные Le Musiche Nove, за пультом Клаудио Озеле.
Читать полностью…
Химера жужжащая
30 сентября 2024 07:43
Уже писала об этом, но с тех пор ничего не поменялось.
Мне всегда казалось, что совпадение Дня переводчика с Верой, Надеждой, Любовью и матерью их Софией — не просто совпадение. В конце концов, как иначе браться за перевод, если не с верой, надеждой, любовью и мудростью, если бог даст? Как и за всё в этом мире, впрочем; иначе зачем вообще.
А в качестве открытки — мои любимые святой Иероним со святой Екатериной из Рийксмюсеума. Переводчик и учёная дева, река, сад, лев, чтобы погладить, даль, чтобы дать отдых глазам, книга и меч, равно могучие и равно бессильные.
Всё, что нужно для счастья.
Читать полностью…
Химера жужжащая
27 сентября 2024 13:28
И ещё о недобрых докторах, Чехове и Булгакове.
О том, как старший передал младшему свою сложную пациентку, я уже писала однажды, но он ведь и клинику на младшего оставил, со всеми исследованиями и наработками. Потому что покойный Максудов, автор записок, известных как "Театральный роман", — это, конечно, реинкарнация Каштанки.
Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. <...> Если бы она была человеком, то наверное подумала бы:
«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!».
Что ж, вот вам человек.
Я вошёл к себе. Свет брызнул сверху, и тотчас же комната погрузилась в тьму. Перегорела лампочка.
— Всё одно к одному, и все совершенно правильно, — сказал я сурово.
Я зажёг керосинку на полу в углу. На листе бумаги написал: "Сим сообщаю, что браунинг № (забыл номер), скажем, такой-то, я украл у Парфёна Ивановича (написал фамилию, № дома, улицу, всё как полагается)".
Подписался, лёг на полу у керосинки. Смертельный ужас охватил меня. Умирать страшно. Тогда я представил себе наш коридор, баранину и бабку Пелагею, пожилого и "Пароходство", повеселил себя мыслью о том, как с грохотом будут ломать дверь в мою комнату и т.д.
Я приложил дуло к виску, неверным пальцем нашарил собачку.
А дальше — явление незнакомца, выход из привычного, артисты, огни, зал, этот мир мой... только Каштанка, насекомое существо, animula vagula blandula, выберет то, что знает как любовь, — и что, конечно, на деле есть чудовищное искажение самой идеи любви, отражение её в мутном, засиженном мухами стекле — а Максудов и того лишён, он тварь словесная, и полюбит он то, что превратит его разговор с самим собой хотя бы в подобие жизни. А то, что это подобие будет раз за разом обманывать, отнимать надежду, как тот кусок сала на верёвке — ну, прежний доктор, Антон Павлович, предупреждал.
Если пройтись по текстам с тщательным карандашом, в них обнаружится ещё и мелодическая, интонационная общность, они одной крови, они по-родственному похожи. "Шёл крупный, пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы", — это у Чехова. "Снег шёл крупный, ёлочный снег", — эхом отзывается Булгаков. "Вспоминала она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк, но всё это представлялось ей теперь, как длинный, перепутанный, тяжёлый сон..." — отпускает Каштанку цирк. "Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, и недавно всё это было, а между тем восстановить события стройно и последовательно нет
никакой возможности. Выпали звенья из цепи! Кой-что вспоминаешь, прямо так и
загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик в памяти. Да, впрочем, труха и есть", — театр своего не отпустит.
И этот их, Каштанки и Максудова, одинаковый детский восторг. Сергей Леонтьевич разве что не бегает кругами и не лает. Впрочем...
Я хотел изобразить моему слушателю, как сверкают искорки на золотом крупе коня, как дышит холодом и своим запахом сцена, как ходит смех по залу... Но главное было не в этом. Раздавив в азарте блюдечко, я страстно старался убедить Бомбардова в том, что я, лишь только увидел коня, как сразу понял и сцену, и все её мельчайшие тайны. Что, значит, давным-давно, ещё, быть может, в детстве, а может быть, и не родившись, я уже мечтал, я смутно тосковал о ней. И вот пришёл!
— Я новый, — кричал я, — я новый! Я неизбежный, я пришёл!
Младшему доктору не привыкать ставить эксперименты на собаках, подобраны они в метель на улице, или достались в наследство вместе с саквояжем инструментов, библиотекой и пенсне.
Читать полностью…
Химера жужжащая
26 сентября 2024 22:40
Известная шутка о том, что Анна Каренина не погибла под поездом, но дожила, опустившись, до преклонных лет и однажды разбила бутылку постного масла о трамвайный турникет, совершенно, конечно, не работает, стоит присмотреться.
Толстой начинает роман в 1873 году, заканчивает через три года. Анне на момент начала событий по общему мнению лет двадцать пять-двадцать шесть. Нет, конечно, ко временам булгаковским ей было бы всего-то к девяноста, но едва ли Анна Аркадьевна, с её подорванным аптечными препаратами здоровьем, могла бы проявлять мучительную для соседей активность, за которую и заработала прозвище Чума.
Предлагаю взглянуть в сторону другой Анны, Анны Сергеевны, с собачкой. Вот она решилась, бежала в Москву, или муж-лакей кстати скончался, бывает же так, королева, что надоел муж? И наняла жильё той или иной степени приличности, в зависимости от обстоятельств, а на дворе-то самое начало ХХ века, есть ещё время дозреть в силе до бутылки масла, изгаженной юбки и награды, на которую ситец покупать.
Как-то оно логичнее, да и двух любимых недобрых докторов русской литературы хочется сочетать, они бы поняли друг друга.
Читать полностью…
Химера жужжащая
16 сентября 2024 21:03
Девяносто седьмой год был удивительно счастливым.
По вторникам канал Arte давал театр, по средам музыку, и, если вовремя поймать анонс, — интернеты тогда ещё толком не изобрели — можно было записать со снежившего по облачности спутникового эфира что-то — такое. Записать, прошу заметить, на видеомагнитофон: я безжалостно стирала кино, заклеивая скотчем выломанные лапки фабричных кассет, ист., потому что любой фильм можно было теоретически купить, а где ты купишь "Ричарда II" с Фионой Шоу?.. а?.. эээ...
A Night With Handel как раз оттуда, из счастливого 97-го.
Решение очевиднейшее, в лоб, — выпусти оперу в нынешний вечерний город, в его торговые центры, подземные парковки, кабаки и парки, и она заживёт — но в этой лобовой очевидности есть что-то, с чем соглашаешься безоговорочно не умом, а всем собой, до ума: да, вот так, так хорошо. Есть и сейчас, а тогда, в 97-м году, оно было в двадцать, в сто раз сильнее, ярче и счастливее. Когда у тебя ещё много любви, когда живого в тебе больше, чем келоидной ткани, оно так и бывает.
Но финальная As Steals The Morn оттуда — совсем другое, особое дело. Уже тогда, в мои двадцать два, я это чуяла каждой клеточкой, а теперь понимаю. Найдено оно безошибочно: волшебная, бурная, с огнями и фиоритурами, с высоким градусом страстей, — love, jealousy, the consequences of these, с мягкой улыбкой Николаса Макгигана в этом фильме произносит что-то у меня голове — с оперной избыточностью и бьющей наотмашь красотой что страдания, что радости ночь завершилась, светает. Город возвращается к повседневности.
И духовые Генделя поют той самой золотой трубой, что удерживает солнце в небе, но не удержит ничего и никогда. Лучше, как водится, остаться здесь, ждать и смотреть на холмы.
Качество видео отвратительное, оно икает посередине, но это ничего не меняет.
Роза Маннион, Джон Марк Эйнсли, Orchestra of the Age of Enlightenment, за пультом Харри Бикет.
#осенее_ночное_радио
Читать полностью…
Химера жужжащая
11 сентября 2024 23:42
Я как-то уже вывешивала этот фрагмент большого концерта Ensemble Correspondances, но есть вещи, которые стоит время от времени повторять — чтобы сияли ярче, как заповедал Фридрих Шлегель.
Плач Орфея из оперы Луиджи Росси — у него Эвридику оплакивает оркестр, а не солист, есть в этом нечто целомудренно-тактичное. Чудесный Себастьен Досе, дирижируя, переступает лаковыми туфлями в отчётливой паване, смотреть на это вот так, когда видно музыкантов и их сказочные, неотсюдошные старинные инструменты, куда интереснее, чем на изыски современного балета в другой записи. Одна эта флейта большого калибра чего стоит.
#осеннее_ночное_радио
Читать полностью…
Химера жужжащая
03 сентября 2024 23:38
Немного Порпоры в эфире. Si Pietoso Il Tuo Labbro из "Узнанной Семирамиды". Птичка наша Филипп Жарусски, Venice Baroque Orchestra, за пультом Андреа Маркон.
#осеннее_ночное_радио
Читать полностью…
Химера жужжащая
28 августа 2024 18:22
Вот это время, когда август вызревает в сентябрь, когда ещё жарко днём, но в липовой листве всё больше солнца, а ночи уже не войлочные, как в зной, но атласные, студёно-синие, в брызгах звёздного молока — никуда я, старая полковая лошадь, не денусь, оно поёт мне боевой трубой, скоро под Трою, скоро из-под Трои домой, вместе с Одиссеем.
Сентябрь почти двадцать лет начинался для меня с Гомера, с дивно украшенного космоса, с горячих камней, на которых трудно растёт всё, кроме горьких оливок и легенд, с вытоптанной равнины у Скамандра, с корявых, наотмашь бьющих запахов военного быта, от конского пота до горящего жертвенного жира, с грохота битвы, крика в совете, едва не переходящем в битву же — с моря сорока оттенков, зелёного, как мёд, и чёрного, как фиалки, смолистого и тяжёлого, как вино, которое непременно нужно разбавлять водой.
Путь мой был сложнее Одиссеева, потому что мне нужно было провести им до ста двадцати рядовых необученных, и за каждого павшего с двойкой в ведомости деканат спускал с меня шкуру, а я, стало быть, спускалась в Аид и собственной кровью, баран не годится, отпаивала тени, чтобы заговорили и наговорили хоть на три, вышли за мной во второй семестр; а уж я не оглянусь, будьте уверены.
Во времена, давно сплавившиеся в легендах воедино с гомеровскими, приятель моего прадеда нашёл у помойки возле дома под снос "Илиаду" и "Одиссею" — вернее, ИЛIАДУ и, представьте, ОДИССΣЮ, так странно-безграмотно значится на корешке — дореволюционного издания Бр. Маркс и принёс в наш дом, "вдруг Алёнушке нужно". Алёнушка, мама моя, была в те поры едва школьницей. Она читала Гомера, а после сдавала его на первом курсе филфака по этим книгам. Потом то же делала я — и по сейчас уверена, что Аθина куда более богиня, чем Афина, и две собаки Телемака, конечно лихiя, а не лихие, старая орфография подходит и велеречивому Гнедичу, и орнаментальному Жуковскому; хотя я всегда советовала котятам "Одиссею" Вересаева, в неё проще зайти.
Может быть, когда с тех пор, как я ушла из университета, пройдёт хотя бы столько же времени, сколько я там прожила, я перестану к сентябрю переходить на гексаметр даже дыханием, но пока — пока вот вам иллюстрации Дани Торрента к пересказу "Одиссеи" для детей.
Все, как живые — хотя почему "как".
Читать полностью…
Химера жужжащая
05 августа 2024 16:23
Михаилу Леонидовичу надобно признаваться в любви всюду, где можешь.
Читать полностью…
Химера жужжащая
31 июля 2024 22:18
Вконтактик напомнил, что год назад я начала рассказывать долгую историю о лебедях, которая в каком-то смысле продолжается и теперь — всё потому, что мне попалась редкая иллюстрация к "Диким лебедям" Андерсена работы Артура Джозефа Гаскина, и я вывесила её в телеге, просто как красивую картинку. Но лебеди решили иначе, они такие.
Большой лебединый сюжет — рождённые по обету дети-оборотни, проклятие мачехи, лебединые рубашки чудесных дев, дети Лира, Элиза и её братья, княгиня острова Буян, последняя песня, гиперборейская дача Аполлона, далее везде — вроде того слона, который, как известно, похож на верёвку, дерево, веер, копьё, стену и змею. Он отражается во всех легендах и сказках только одной стороной, поворачивается то так, то эдак, ускользая от целостного восприятия. Реконструкции, прикидывающиеся наукой, я терпеть не могу, но можно же попробовать рассказать сказку, сказочник я, или кто?
Потихоньку выкладываю сказку — хотя, будем честны, получается скорее рыцарский роман, romance, мой любимый жанр — частями ВКонтакте, набралось 0.7 листа — вывесила на АТ.
История не окончена, но её уже можно читать.
Читать полностью…
Химера жужжащая
08 июля 2024 18:18
Непреложный закон телеги: стоит написать что-нибудь, что более-менее широко разойдётся, набегают торговцы рекламой. В этот раз, видимо, "Алиса" волну запустила, нынче уже дюжина стучалась.
В энный раз повторю: я рекламу не беру и брать не стану. И не потому, что мне не нужны деньги, покажите мне того, кому они не нужны... боюсь, не получится — достигших такой степени просветления тут же забирают живьём на небо.
Деньги мне, разумеется, нужны. Просто я привыкла их зарабатывать — и не тем, что прерываю разговор попыткой впарить собеседнику целебного орвьетану или зазвать его на Курс эффективной наглости от Саши Мяу, осталось всего пять мест со скидкой! А здесь, как и до того в фб, а до того в жежешке, а до того, когда боги были молоды, и мир ещё нов, на кухне в компании, я разговариваю. Треплюсь. Болтаю. Щебечу небесной птицей о чём захочется. Это, понимаете, не работа.
Ладно лекции: амортизация голосовых связок, приведение себя в презентабельный вид, то-сё. Но на лекции или честный входной билет, — редко — или столь же честно накиданное слушателями в шляпу жонглёру, по их, слушателей, собственному почину.
Обращаться же с читателем, как строгая бабушка, — пока суп не съешь, никаких тебе погуляшек! — подсовывая ему рекламу прежде чтения, не вижу смысла и желания не имею; мне бы не хотелось, чтобы так обращались со мной.
Заведомый отказ от размещения рекламы я добавлю в профиль, и впредь с чистой совестью не буду отвечать на подобные запросы.
Читать полностью…
Химера жужжащая
05 июля 2024 15:35
Пятничных прерафаэлитских вомбатов вам.
1. Набросок Эдварда Бёрн-Джонса.
2. Рисунки Кристины Россетти из зверинца; вомбат, как можно понять, внизу.
3. Рисунок самого Россетти, вомбат при его чувственной музе Джейн Моррис, той самой героине с губами и волосами, которая у него всё, от Астарты до Персефоны.
4. Автопортрет Россетти, оплакивающего почившего Топа. Там поминальные стихи:
I never reared a young Wombat
To glad me with his pin-hole eye
But when he was most sweet and fat
And tail-less, he was sure to die!
Явная отсылка к тексту Томаса Мура "Лалла-Рух", в котором поэт прекрасную деву оплакивает. Обычно пишут, что это пародия, но тут, пожалуй, сложнее, тут и примысливание к канону, и самоирония, и очень викторианское разрешение себе подлинного пафоса через снижение.
Кэрролл тоже так умел — почему и подружился с прерафаэлитами.
Читать полностью…
Химера жужжащая
04 июля 2024 16:44
И ещё околокэрроловского, раз уж сегодня Алисин день.
Соня, которую Шляпник и Заяц запихивают в чайник, это, конечно, не та помесь сурка с вомбатом Россетти, — вы знали, что Данте наш Габриэль держал вомбатов?.. знайте, у него целый зверинец был, но сейчас не о том — которую нарисовал Тэнниел. Это садовая соня, которая больше похожа на белочку или золотистую мышку с пушистым хвостом.
Собственно, кембриджский богослов и библиотекарь XVI века Стивен Бейтмен в переводе-пересказе книги Варфоломея Английского De Proprietatibus Rerum, "О свойствах вещей", пишет о садовой соне:
"Это мышь, которая пробегает по лезвию меча и засыпает на его острие"
— то есть, так легка, что может пробежать по режущей кромке, не поранившись, и так легко впадает в сон, что и на острие уснёт.
Только вот общаются эти нежные мыши цоканьем и клацаньем зубов. Разговор на безумном чаепитии обрастает новыми волнующими подробностями.
Четыре этюда садовой сони от Пизанелло вам, клац-клац.
Читать полностью…
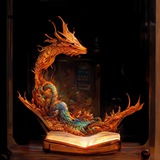
 9459
9459