Химера жужжащая
04 июля 2024 01:05
Годы идут, а уважаемые читатели по-прежнему спрашивают, почему 4 июля — день Алисы.
Я писала об этом несколько лет назад, но в сети и вчера-то не существует, так что собрала все тогдашние записи в одну. Получилось длинно, — mine is a long and sad tale — зато бессмыслицы много, как любила настоящая Алиса.
К утреннему кофе вам.
Читать полностью…
Химера жужжащая
03 июля 2024 11:48
ВГБИ вывесила запись майской лекции про медведя.
Читать полностью…
Химера жужжащая
10 июня 2024 23:15
Собрала свои заметки за много лет, написала про Дон-Жуана, в смысле, Don Giovanni, и Дона Гуана — а ещё про Гофмана, Чайковского и всё, что в голову пришло.
Читать полностью…
Химера жужжащая
05 июня 2024 22:04
В глубине души я всегда знала, что "Женитьбу Фигаро" под шампанское надо не перечитывать, а переслушивать — просто потому, что Моцарт куда лучше Бомарше рассеивает чёрные мысли.
Жаль, Александр Сергеевич не знал этого Порпору, вот уж шампанское нотами. Это финал спектакля из ковидного Байрёйта 2020, ария не из заявленной оперы, за что Ценчича, поставившего эту легчайшую хулиганскую прелесть, поедом ели знатоки и пуристы.
А мы — не они.
Мы слушаем Юлию Лежневу, смотрим балаган, как заповедал Пак, и можно даже без шампанского.
Читать полностью…
Химера жужжащая
25 мая 2024 21:19
Давным-давно, в прошлой жизни, я защитила диссертацию о механизмах культурной памяти в непрофессиональном поэтическом творчестве взрослых людей; с тех пор и не понимаю, что может иметься в виду под "профессиональной поэзией" — жизнь на гонорары?.. ну, позвольте, тогда у нас поэты только авторы текстов к рекламе и попсе. Как бы то ни было, объём материала для исследования был сокрушителен уже в те далёкие годы, нынче же и вовсе.
Наш человек поэтической речи неосознанно доверяет и тянется к ней, потому что чует в этом формате слова не только проявленную ценность, о которой писала Лидия Гинзбург, но и нечто более древнее, архаическое почти — ритм, строй, способность подчинять себе дыхание и пульс, собирать толпу в единое и вычленять из неё личное, управлять человеком, а, стало быть, и всем в природе; врождённый анимизм, чего ж вы хотели. Тем, кто набрал воздуху, чтобы саркастически поинтересоваться: "А как же верлибр?" — отвечу, что и он, если поэзия, обладает тем же свойством восходящего потока, а если нет — ну, тут Александр Сергеевич, как всегда, успел первым:
...что, если это проза,
Да и дурная?
Впрочем, не всё ритмизованное несёт в себе это зерно магического, вовсе нет. Иные стихи, которые легко пересказываются прозой, походят больше на наломанные под кастрюлю метра спагетти; за такое в классических краях бьют.
Мы не о мошенничестве, мы об электрическом шорохе непостижимого, о том, что ходит по коже и под ней, когда начинаешь читать. Собственно, заговорила я о поэзии потому, что нынче день рожденья Бродского, и вряд ли я когда забуду, как меня восемнадцатилетнюю ударило вот этим самым током от такой простой его строки:
И не могу сказать, что не могу —
да, там дальше жить без тебя, поскольку я живу, как видно из бумаги, существую и т.д., но вот так, изолированно, она была подобием того шекспировского стиха, который Набоков назвал замороженным,
Never, never, never, never, never
— короля Лира с мёртвой Корделией на руках.
Есть слова, отпечатывающиеся на тебе, будто следы на сыром бетоне, чтобы потом застыть навсегда. Venit Hesperus, ite capellae. The certain knot of peace, the baiting-place of wit, the balm of woe. In his bright radiance and collateral light must I be comforted, not in his sphere. Он убедительно пророчит мне страну, где я наследую несрочную весну. Тихо плавают в тумане хоры стройные светил. Я поздно встал — и на дороге застигнут ночью Рима был. Then felt I like some watcher of the skies.
И много, много — из Пушкина, из Ходасевича, из Мандельштама, из Бродского, из кого угодно.
Электрический импульс, который заставляет и инертный газ образовывать соединения.
Читать полностью…
Химера жужжащая
21 мая 2024 15:59
Принцесса и медведь Йона Бауэра напоминают всем записавшимся на лекцию, что мы встречаемся завтра в Книжном клубе Иностранки в 18.30. Главный вход, сразу налево.
Читать полностью…
Химера жужжащая
15 мая 2024 11:00
Итак, дорогой друг, чем закусывать, спрашиваете Вы? Ветчиной. Но этого мало. Закусывать надо в сумерки, на старом потертом диване, среди старых и верных вещей. Собака должна сидеть на полу у стула, а трамваи слышаться не должны. Сейчас шестой час утра, и вот они уже воют, из парка расходятся. Содрогается мое проклятое жилье. Впрочем, не буду гневить судьбу, а то летом, чего доброго, и его лишишься — кончается контракт.
Впервые ко мне один человек пришел, осмотрелся и сказал, что у меня в квартире живет хороший домовой. Надо полагать, что ему понравились книжки, кошка, горячая картошка. Он ненаблюдателен. В моей яме живет скверная компания: бронхит, ревматизм и черная дамочка — Нейрастения. Их выселить нельзя. Дудки! От них нужно уехать самому.
Куда?
___________
Это он пишет П.С. Попову 25 января 1932 года. Да, невыносимый человек он был, неприятный. И так жаль, что не позвать его к себе, хоть бы бульон ему варить и пуговицы проклятые пришивать.
С днём рожденья, Михаил Афанасьевич.
С днём рожденья, самый любимый.
Читать полностью…
Химера жужжащая
07 мая 2024 20:38
К предыдущему.
Да, это рекламный флэшмоб испанского банка. Но главное здесь то, что ни за какие деньги не купишь: поле смысла и красоты, которое возникает само собой и тащит в себя людей, случайно оказавшихся рядом.
Бетховен, последний из великих, понимавших, что музыка есть переживание сугубо физиологическое, материальное, знает, как оно работает: сейчас... вот сейчас... вот сейчас... закручивается воронкой, словно смерч, и поднимает бытовой хлам, обыденность, всё, казавшееся уныло-устойчивым, в прекрасный хаос, он же гармония... и умеет перевести это в звук, что важно.
Когда оно разрешается наконец, счастье совершенно телесно, на вдохе, во весь объём тебя, с долгими лучами вовне, и устоять нельзя — не нужно.
Читать полностью…
Химера жужжащая
07 мая 2024 17:53
А вот и третья лекция "сказочного" цикла в Калининградской областной научной библиотеке.
Читать полностью…
Химера жужжащая
24 апреля 2024 21:20
Давайте, я вытрясу из карманов ещё Гофмана, и от меня, наконец, отпишутся все, кто рассчитывал на полезный прастихоспади контент.
Читать полностью…
Химера жужжащая
23 апреля 2024 16:19
Исполняю роль Мари Штальбаум на оригинале иллюстрации великой Ники Гольц.
Гофмановская выставка в Калининградском художественном музее.
Читать полностью…
Химера жужжащая
22 апреля 2024 13:19
У сегодняшнего именинника — нет, другого — есть английское стихотворение, которое мало знают, An Evening of Russian Poetry. По-набоковски нарядное, что здесь отнюдь не мешает точности, наблюдение за природой языка, чей породный состав и рельеф, фонетика и грамматика, определяют то, как складывает картину мира говорящий, — сперва напечатала "говопящий", привет от толкающих под руку волнений эфира — тем более, пишущий.
The rhyme is the line's birthday, as you know,
and there are certain customary twins
in Russian as in other tongues. For instance,
love automatically rhymes with blood,
nature with liberty, sadness with distance,
humane with everlasting, prince with mud,
moon with a multitude of words, but sun
and song and wind and life and death with none.
И в самом деле, любовь автоматически тянет за собой кровь — вновь, ряд повелительных наклонений, невнятную бровь и, обереги бог, свекровь юмористического жанра.
Куда деваться, аромат — брат дыхания, а фонетика оно и есть. На языке, где любовь, сердце, смерть и тоска-печаль — amor, cor, mor, dolor — образуют строгие рифмы, не могло не возникнуть великой лирической поэзии; на её звучание на окситанском потихоньку потянулась и вся средневековая Европа.
"Так", — говорит материя, бросая мячик.
"Так", — отвечает ей ум и ловит его.
За возможность увидеть это голыми глазами спасибо Набокову.
Читать полностью…
Химера жужжащая
13 апреля 2024 13:01
И ещё про Красавиц и Чудовищ: а вот вам и Кинг Конг.
Издание McLoughlin Bros, 1891, художник не указан.
Читать полностью…
Химера жужжащая
11 апреля 2024 21:10
Немножко Красавиц с разными Чудовищами для примера.
Читать полностью…
Химера жужжащая
10 апреля 2024 17:40
из наблюдений на полях рабочего:
Роюсь в иллюстрациях к сказкам, ищу годное, попутно перелопачиваю груды любительских работ. Если отбросить пластмассовую карамель производства нейросеточек и мангаобразное девичье рукоделие, получим предсказуемое: прерафаэлиты и Климт, Климт и прерафаэлиты — вот он, всемирный изобразительный язык, вот она, универсальная эстетика, любезная сердцу потребителя. Ну, ещё немножко Альфонса Мухи и арнувошного декора вообще, особенно, если эльфы.
Оно и понятно, коллективное бессознательное тоскует по последнему большому методу, а больше того — по последнему золотому веку, до вот этого вот всего. Тут сразу скажем, что всякий "золотой век" возникает лишь в обратной перспективе, в пренебрежении собственно историческим знанием об эпохе. Едва ли кто-то из умиляющихся, к примеру, викторианским чашечкам, согласился бы хоть полгода пожить в настоящем викторианском доме, в том быте; особенно, если не барышней себя представлять, а горничной или подёнщицей. То же и с эпохой арнуво, если ты не Рябушинский и даже не профессор Преображенский.
Но латунные раскладки, стёкла с фацетом, гнутые ручки, вся эта томительная красота машинки "Зингер" и жестянки от бормановских конфет!.. Изразцовые фризы, литые ограды и скульптурные фигуры особняков, доходных домов, мимо которых хаживал ещё дитятею, наблюдая безотчётно иномирную, неотсюдошную, несейчасную жизнь. Девы-маскароны, следившие за тобой с полуулыбками мучениц на пороге благодати, провожавшие взглядом из-под лепных то ли волос, то ли кобриных капюшонов, так и отпечатались где-то в межрёберной тьме, так и остались тем единственным образом, на который всем собой откликается сердце прежде разума.
Отмечу и то, что больше прочих перепевают — как теперь говорят, вдохновляются — Василису Билибина с черепом-фонарём на палке. Куда Джоконде! Знали бы мы, носившие конфеты, папиросы и карандаши на серый академический камень, ему и прочим, знал бы сам Иван Яковлевич.
Впрочем, он-то, думаю, знает — и немало веселится.
________
Пожалуйста, не надо мне советовать художников, запись не об этом.
Читать полностью…
Химера жужжащая
03 июля 2024 18:06
День рожденья Кафки сегодня, как не вспомнить.
Как-то я помогала коллеге принимать ХХ век у заочников, — совсем беда была, раз меня, за романтизм высовывавшуюся редко и неохотно, привлекли — и ко мне села девушка с билетом по Кафке.
Июнь, жара вроде нынешней, старый ещё четвёртый корпус, аудитория под крышей, выходящая на музей и на юг, в окнах горит пустая площадь, дураков нет пересекать открытое пространство в два часа пополудни саратовским летом. Заочница — выгоревшая до ковыльной белизны блондинка, круглолицая, томная от зноя, схваченная розоватым загаром, в голубом романтическом сарафане, только писать её, с этими горячими бликами на плечах и шее.
Лопочет что-то про Кафку, довольно беспомощно, я спрашиваю, как всегда:
— Что вы читали?
— "Превращение".
— Прекрасно, давайте про "Превращение".
— Это произведение начинается с того, что герой Кафки просыпается и обнаруживает, что превратился в гусенúцу...
Читать полностью…
Химера жужжащая
15 июня 2024 11:04
У Уччелло сегодня день рожденья.
Читать полностью…
Химера жужжащая
06 июня 2024 10:39
Божественный наш декан Валерий Владимирович — учивший, что из всех наук лишь философия да филология подразумевают любовь к предмету как метод исследования — читал набору 1991 года историю русской литературы в первом семестре первого курса. Читал в бывшем торговом зале биржи, нашей большой лекционной девятой аудитории. Оный зал был, по легенде, спроектирован так, чтобы деловые люди не слышали разговоров друг друга в двух шагах; девятая убивала голоса, прихлопывала их к полу, сажала связки, — первое несмыкание я заработала именно в ней — но ничего не могла поделать с нашим божественным деканом: баритон его, магический, тёмный, мягко сносивший с ног, не столько распространялся по воздуху, сколько вводил в резонанс предметы и щербатый паркет, настигал ум желторотого романогреманца через ступни да локти и был потому неотвратим, как сама русская литература.
— Здесь он гонялся за Пугачёвым... — рокотал В.В., вздевая очки на нос и разыскивая цитату в томике Державина. — И буквально здесь два раза чуть не поймал...
Аудитория оборачивалась к арочным окнам, выходящим на улицу Радищева, силилась различить резвого молодого Гаврилу Романыча в степях — и буквально два раза чуть не различала, но не о том нынче, нынче о Пушкине.
В.В. провоцировал. Заманивал. Выдёргивал школьные белые нитки из мозгов.
— Подумайте, — говорил он как бы между прочим, — средствами какого искусства может быть воплощена ремарка "Войска переходят границу"?
Совокупный стон тормозных колодок в первокурьих головах был бы невыносим, когда бы девятая аудитория не съедала шумы.
Он же, В.В., навеки сломал нам ладный пустой проворот ветряной вертушки, уроками литературы поставленной на юру: на свете счастья нет, а есть что-ооо?.. правильно, дети. Воля, самое непереводимое из русских слов, потому что не freedom и уж тем более не социальное liberty, но простор, от которого перехватывает дыхание, сладкий обрыв осознания — воля.
— Покой, и — воля! — произносил В.В., плавно сжимая кулак над кафедрой, и до тебя вдруг доходило, что воля по-русски — ещё и структурирующая сила, власть, воление, решимость, определённость, и в этом значении она не просто не противоречит покою, но поднимает его на уровень почти космический, почти мирообразующий.
Воля как непостижимый промысел, Его воля, на которую, в общем, и выпускают птичку при светлом празднике весны: там она ох, как не равна свободе, появляющейся в финале.
Так что же есть на свете?
Покой и воля как свобода, — уехать в деревню, читать мало, долго спать и смотреть на холмы, о счастье не тревожась — или покой и воля владения и управления собой, а там, глядишь?.. И то, и другое вместе, неустойчивое равновесие подвижной открытости мира и жёсткой его, а пуще себя, структуры, интерференция их, извлекающая из белого света все возможные цвета, из слов — все возможные значения?
Я не отважусь решить однозначно, я склонна полагать, что и "счастья нет" есть лишь суеверное отрицание, — je suis l’athée du bonheur; je n’y crois pas, писал он из Болдина в Опочку Прасковье Александровне, в вопросе счастья я атеист; я не верю в него — отворачивание от того, о чём готов отчаяться, чтобы не терзаться чаянием.
Есть покой — и свобода, и осознанное последовательное усилие, выбор идти к тому, что сердце твоё знает как желанную долю, пусть и замирает от её (не)возможности. А счастье... а видно будет.
Пушкин ещё есть, и это уж точно — счастье.
Читать полностью…
Химера жужжащая
28 мая 2024 17:53
Официальное латинское название ястреба-тетеревятника — Accipiter gentilis, в английском есть калька, gentle hawk, хотя чаще используется goshawk, от староанглийского gōshafoc, "гусиный ястреб"; в представлении английского раннего средневековья он чаще гусей бьёт, чем тетеревов.
Почему он gentle, что в нём такого нежного, в хищнике? А тут мы упираемся в мою любимую историю про семантическую мутацию слова gentle в английском языке. Происходит оно через англонормандский и старофранцузский от латинского gentilis, означающего "родственный, принадлежащий к тому же роду (народу, племени и пр.)", основа очевидна — gens, род, у нас отсюда "ген". Но где-то по дороге род становится высоким, и gentle начинает означать "благородный", то есть, аристократического происхождения. Именно это значение играет — наконец-то можно сказать "играет значение" и не почувствовать себя безграмотным! — у Шекспира в "Ричарде III", когда королева Маргарита называет Ричарда gentle villain, "злодей высокородный", что Радлова переводит как "благородный хам", и это, конечно, немножко не о том.
Но вернёмся к нашим ястребам.
"Благородный" он или "из их семейства", не так интересно. Интересно само название Accipiter, в котором так ясно слышно accipere, "получать, принимать, доставать и пр.", то бишь, ястреб — тот, кто берёт; хватайка, вроде гриммовской собаки? А вот и нет, лексикологи склонны считать, что accipiter появился в результате сближения с глаголом accipere изначального долатинского *acupeter, "быстрокрылый", ср. латинское ocior, быстрее, и греческое ὠκύς, быстрый. Русское "ястреб" тоже по одной из версий восходит к древнему "astrъ", быстрый.
А вот германское hafoc, предок английского hawk, как раз означает "хватайка", поскольку связано с индоевропейским *kopuǵos, "тот, кто хватает"; хапуга, да.
Что интересно, у нас тоже есть хищная птица-хватайка, но это коршун, чьё название родственно древнеиндийскому kársati "тащит, волочит, рвёт". Ну, кто его разберёт: рухнул с неба, схватил гуся, потащил — то ли коршун, то ли ястреб нежный.
Лексикология, любовь моя.
Читать полностью…
Химера жужжащая
24 мая 2024 16:53
Про нас пишут.
Если открыть канал, там ещё фотографии следующим постом.
Читать полностью…
Химера жужжащая
20 мая 2024 21:19
День Волги сегодня.
С праздником, родная.
Читать полностью…
Химера жужжащая
11 мая 2024 12:31
Ну что ж, вторая попытка.
Читать полностью…
Химера жужжащая
07 мая 2024 20:16
Если вы вдруг хотели праздника — ровно двести лет назад, 7 мая 1824 года, в венском Кернтнертортеатре впервые исполнили Девятую симфонию Бетховена.
Да, Караян, поскольку лучше за двести лет ничего не появилось.
Читать полностью…
Химера жужжащая
05 мая 2024 13:51
Миниатюра другая, текст прежний, тут ничего не меняется.
Это один из любимых моих сюжетов у человечества.
Ещё до зари — в сущей тьме — женщины выходят из дома, захватив всё необходимое, у них дело. Так получилось, что в этом мире у женщин любая беда — ещё и дело, всех нужно встретить, накормить, за всеми помыть, не забыть ничего, собрать заранее на завтра, чтобы поутру не перебудить отплакавший своё и уснувший дом. Что бы ни было, надо встать затемно и двигать мир, где толкая, где волоком, не потому что хочется, но потому что привычка, выучка, арматура, которая стоит, даже когда всё обрушилось.
И вот они идут, коротко переговариваются, кутаются в траурные покрывала от рассветного холода, и нет в мире ничего, кроме горя.
Есть — и сейчас они об этом узнают.
Читать полностью…
Химера жужжащая
24 апреля 2024 13:17
Ещё немного Гофмана.
На первой фотографии — декорация и куклы из многострадальной "Гофманиады", репетиция не менее многострадальной "Ундины". Конструкция держится на решётке из бруса, обшитой фанерой, это видно, если зайти сбочку и приглядеться.
Если это сделать, — разумеется, не сделать этого я не могла — в клеточках, образованных брусом, обнаружится то, что на второй фотографии. Низачем, его, понятно, не видно в кадре. Чей автограф, режиссёра Соколова или самого Шемякина, снявшего имя с титров, не понять.
Да, в общем, не так и важно.
Читать полностью…
Химера жужжащая
23 апреля 2024 09:05
Традиционно вешаю в шекспировский день этот фильм Барри Пёрвза. Он 90-го года, я увидела его ещё школьницей в какой-то передаче об анимации, — пустили под титры, бегом, я стояла, остолбенев, в коридоре, шла мимо телевизора — и много лет пыталась это сыграть всем. Не помнила ни имени автора, ни названия, только магию. А потом, когда появился интернет, каким-то чудом, по ключевым словам нашла.
Он очень шекспировский, весь про игру, про неуловимость и невозможность удержать найденное, про наивность любого театра, про то, какие мы все, как говорят в финале Пак и сэр Питер Холл, прослушивающий Уилла, дураки.
Что остаётся? Тряпочки, ленточки, фольга и картон, немного краски, немудрёный реквизит — и текст, который может и не звучать, поскольку его не отменишь, один раз узнав.
Читать полностью…
Химера жужжащая
20 апреля 2024 13:11
Разговорились об упадке и крахе вдохновенного гонева, — о чём же ещё — друг привычно помянул Фрейшица, разгранного перстами робких учениц, и я вдруг подумала: а что именно играют эти пушкинские девы из оперы Карла Марии фон Вебера?
Комментарии к академическим изданиям скупы, даже Лотмановский:
...разыгранный Фрейшиц... — Фрейшиц — «Фрейшютц» («Вольный стрелок») (1820) — опера К. Вебера (1786-1826), в период создания главы была популярной новинкой.
Была, да играли-то что, не всю же популярную новинку.
Набоков полагает, что увертюру, и добавляет:
"Вяземский писал из Москвы (24 марта 1824 г.) А. Тургеневу в С. -Петербург: «Пришли жене моей все, что есть для фортепиано из оперы "Der Freischütz": вальсы, марши, увертюру и прочее». Тургенев отвечал 4 апреля, что постарается. 10 апреля Вяземский сообщил, что ноты можно достать и в Москве".
Во-первых, из этого не следует, что увертюра была популярнее "прочего", во-вторых, вы её послушайте — и представьте, как девицы это разыгрывают в четыре руки; робких учениц явно же больше одной. Представили? Ну вот и я думаю, что Набоков ошибся.
Вяземский ещё вальс упоминает, это "народный праздник" из первого действия, но он тоже кажется мне скверным выбором. Дело в том, что с неумелым исполнением прекрасной музыки Пушкин, кокетничая, сравнивает свой перевод письма Татьяны — оно, напомню, написано по-французски, поскольку сочинено явно по мотивам прочитанных романов... и писать в таком случае девица Ларина должна была бы на английском, именно британской музы небылицы тревожили её сон, но об этом как-нибудь в другой раз.
То есть, нам нужно что-то столь же лирически-прекрасное, с девичьим сердцем и трепетным чувством. И идти нам тогда к Агате, к одной из её сольных партий: либо "Leise, leise" из второго акта, либо, что вероятнее, "Und ob die Wolke sie verhülle" из третьего, это ключевой момент сюжета, точка высшего напряжения; а ещё это очень красиво, и хорошо подходит для разыгрывания нежными девами в четыре нежных руки, под одобрительное посапывание папеньки в креслах и восторженное всхлипывание юных поэтов из числа гостей.
Так-то оно так.
Но главный хит "Вольного (он же Волшебный в нашей традиции) стрелка" — это, как ни крути, хор охотников. И как, как отделаться от возникающей на изнанке лба картинки: две юницы в ампирных платьях, причёсанные à la grecque, в четыре руки исполняют хор охотников и нежными голосками выводят:
Wenn Wälder und Felsen uns hallend umfangen,
Tönt freier und freud'ger der volle Pokal!
Joho, trallala!
Тут и папенька проснётся, и бог знает, что может сделаться вообще.
Читать полностью…
Химера жужжащая
12 апреля 2024 15:32
В телеге лирика никому не нужна, но попросили перенести сюда эту запись из вконташечки — переношу.
В саратовском аэропорту, который весь про космос, на посадку идёшь под переговоры перед стартом, сквозь арки с бегущей строкой стенограммы: "Проверка. — Есть проверка. — Как чувствуете себя? — Чувствую себя хорошо". И в рукав шагаешь, конечно, под неизбежное:
— Поехали!
Так что разливы и острова там, где Волга вбирает в себя Каюковку, Шумейку, Усовку и прочую мелочь, кажутся — если повезёт взлетать не в сторону степи, но на воду — то ли Землёй с орбиты, то ли планетой Солярис, и чувствуешь себя хорошо, космонавтом себя чувствуешь. Словно вырос из пяти своих лет, когда "кем хочешь стать? — космонавтом!", в какую-то совсем другую, совсем правильную жизнь, через тернии к звёздам; Степан, задраивай меня.
Эти космические острова прекрасны, даже если смотреть на них не с небес, нет в мире ничего, что я любила бы больше места, где Земля закругляется — оно, как известно, здесь, спросите хоть Кассиля. Но то, что шестьдесят три года назад они стали Землёй как таковой, озаряет их новым светом, тем, который мы носим в себе и зовём кто смыслом, кто ещё как, зная, независимо от имён, что им одним и держится мир.
Мир наш, привычный, домашний — и тот, что вокруг него, больше, следующий; и, видимо, те, что за ним. В Дне космонавтики я, советский ребёнок, чувствовала всегда неявное, растворённое присутствие того, для чего у нас вовсе не было имён: можно выйти из малого мира туда, откуда никто не возвращался, — и вернуться. А если смог один, смогут многие.
Человечество вечно рассказывает себе одни и те же истории, строит из того, что уже строило и разрушило, летит по спирали — вы видели модель того, как Земля движется вокруг Солнца? каждая её точка описывает не орбитальный эллипс, но именно спираль — и смотрит на себя вчерашнее, сличая. Мы изменились необратимо, мы остались теми же, мы опять пытаемся уловить тот свет, который позволяет нам себя различить. И Гагарин опять улыбается: давайте, у вас получится.
Он-то знает.
Читать полностью…
Химера жужжащая
11 апреля 2024 21:03
ещё из рабочих заметок:
Для лекции, само собой, смотрю очень много иллюстраций к "Красавице и Чудовищу"; продираясь сквозь неизбежный диснеевский борщевик, но это так, вздох в сторону.
А вот наблюдать, как меняется иконография Чудовища — отдельный деликатес. Очевидно, что, помимо традиции книжной, от образованной публики, читавшей охотно Апулея и сказку об Амуре и Психее в его "Метаморфозах", история эта подпитывается самыми глубокими грунтовыми водами европейской архаики, в которой зверем-первопредком, конечно, выходит медведь. Я об этом и о печальной судьбе поверженного короля рассказывала в лекции бестиарного цикла, должна была повторить её в феврале, не вышло, но, даст бог, ещё в этом сезоне прочту.
Поэтому Красавицы с медведями встречаются очень часто, особенно у иллюстраторов из Скандинавии и Германии. У англичан тоже, но у них вслед за французами галантного века Чудовище получает иногда ещё и кабанью голову: кабан по истреблении медведей — самый страшный зверь европейского леса, оплачем нежного Адониса, как принято в высокой лирике со времён Ренессанса.
От кабана Чудовищу достаются бивни, даже если оно превращается в условного льва, каковой облик и закрепит Дисней. И рога, рога, конечно, у любого образа силы должны быть рога, это древнее нашего мышления, это сидит где-то на самом дне коллективного бессознательного, да ещё под коряжкой.
То есть, на выходе мы получаем довольно точное совпадение с иконографией добродетели, которую называют и "силой", и "стойкостью", и "отвагой": дева и подчинившийся ей зверь. Для полной картины не хватает лишь дракона, но им как раз пугают Психею завистливые сёстры: ты, дескать, с мужем только в темноте встречаешься, а вдруг он вовсе змей ужасный?
Вот так начнёшь изучать семейные портреты и выяснишь, что все опять друг другу родня.
Читать полностью…
Химера жужжащая
08 апреля 2024 14:02
Бог даст, мы встретимся в Калининграде — на том же месте, в тот же час, 26 апреля.
Читать полностью…
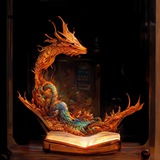
 9459
9459