Химера жужжащая
06 апреля 2024 13:22
Нет ничего удивительного в том, что Роальд Даль назвал своего эксцентричного шоколатье явно по мотивам Вилли-Винки, персонажа детского стишка Уильяма Миллера, опубликованного впервые в 1841 году, на скотсе (германском варианте шотландского языка, есть ещё кельтский), и автором переведённого на английский тремя годами позже. Мы его знаем в переводе Токмаковой: "Крошка Вилли-Винки ходит и глядит: кто не снял ботинки, кто ещё не спит?" и т.д.
Персонаж этот, Wee Willie-Wikee, у англоязычных сидит глубоко в бессознательном. Собственно, Миллер его не придумал, первое четверостишие его песенки в английской печати встречается ещё в 1820-е, и фольклорная фигура, навевающая сон беспокойным детям, на всём острове известна под примерно тем же именем, — в Ланкашире его Билли зовут, к примеру — и родни у него по европейской низшей мифологии не перечесть. Что Песочник, что Оле Лукойе, что Клаас Вак, все явно происходящие от ночных духов, которые детей крадут и душат. Наш серенький волчок, который придёт и схватит за бочок, тоже из них, просто архаичнее, ещё зверь.
В родной для Миллера Шотландии Willie-winkee — ласковое, но пренебрежительное прозвище для ребёнка худосочного и не блещущего умом. То есть, ночной дух и его подопечные дети сливаются воедино, пастух и овца, как известно, преподобны с лица; тем более, что чахлых дурачков традиционно считали фейскими подменышами. Прозвище давнее, судя по всему, к средневековью восходящее, потому что во время якобитов — напомню, восстание произошло в 1689, целью его было вернуть на британский престол Стюартов, и окончательно шотландцы замирились только с принятием Унии; впрочем, они по сию пору не замирились, о чём это я — так вот, во времена якобитов так звали короля Вильгельма III Оранского. Ещё его звали Голландцем (что логично), Хоганом-Моганом и Вилли-все-возможные-ругательства-через-дефис, но это к делу не относится.
Что ни делай с архаикой, она просачивается всюду, только иной раз её сложно признать под смешной шляпой.
Читать полностью…
Химера жужжащая
28 марта 2024 20:23
Но у Байрона и нет драмы. У него всякое действие — а δρᾶμα, напомню, означает именно "действие" — прекращается, разрушение завершено, кругом непроглядное безвидное ничто. И от этого, от этого простого darkness, если вдуматься, куда тоскливее и страшнее, чем от тьмы и даже Тьмы.
Читать полностью…
Химера жужжащая
19 марта 2024 20:24
Завтра в семь утра по Москве Солнце проходит точку равноденствия. Новый день, новая весна, новый поворот колеса.
"Залитые дороги" чудесной Мари Муравски как раз об этом.
Читать полностью…
Химера жужжащая
07 марта 2024 19:54
В третьей сцене первого действия Лаэрт, предостерегая сестру от сближения с Гамлетом, говорит:
For Hamlet, and the trifling of his favour,
Hold it a fashion, and a toy in blood;
A violet in the youth of primy nature,
Forward, not permanent-sweet, not lasting;
The perfume and suppliance of a minute;
No more —
А что до Гамлета, и его пустячной благосклонности, считай, она для вида (наши переводчики часто идут за очевидным значением fashion, «мода», но это ещё и «манера», «внешний вид», «форма», «обычай» и пр., Лаэрт, скорее, что принц, как принято, изображает влюблённость — вот как Ромео её яростно разыгрывал по поводу Розалины, пока не встретил Джульетту), кровь играет; фиалка, юная в цветущей своей природе, торопливая (слишком ранняя, поспешная, отчаянная и пр.), сладость её непостоянна, она ненадолго; минутный аромат и празднество, не больше.
Если не кривеньким подстрочником, то, конечно, Лозинский:
А Гамлет и его расположенье —
Так это лишь порыв, лишь прихоть крови,
Цветок фиалки на заре весны,
Поспешный, хрупкий, сладкий, неживучий,
Благоухание одной минуты;
И только.
«И только?» — грустно переспрашивает Офелия. Нет, девочка, и этого-то не будет.
В наших переводах эта фиалка принца Гамлета почти всегда сохраняется, только у Вронченко и Полевого просто «цветок», да у затейника Агроскина «первоцвет».
Шекспировская фиалка — это, конечно, Viola odorata, Фиалка душистая, устойчиво означающая благоуханную весну. Принцесса-пастушка Утрата в «Зимней сказке» вздыхает, что зимой цветов мало, нет тех, что подошли бы её юным подружкам; например, фиалок, которые, может, и неярки, dim, но «нежнее век Юноны». Влюблённый Орсино, слушая музыку, говорит, что она словно веет над поляной фиалок, крадёт и дарит аромат, а герцогиня Йоркская в «Ричарде II» спрашивает сына, кто теперь фиалки, устилающие зелёные колени новой весны — имея в виду, кто в милости у нового короля.
Другая, столь же прочная, ассоциация связывает фиалку с вещами совсем невесёлыми: со смертью и могилой. Офелия, в безумии раздающая свой букет придворным, — мне, к слову, всегда казалось, что он воображаемый, что нет у неё в руках ни руты, ни розмарина, ни водосборов, ни фенхеля, ни анютиных глазок, ничего; у Офелии никогда ничего и не было, разве что слова перед смертью появились — Офелия говорит, что дала бы королеве фиалок, но все они завяли, когда умер отец; говорят, смерть его была лёгкой. Но эти увядшие фиалки снова возникают уже возле могилы самой Офелии, когда Лаэрт, прощаясь, произносит: «Пусть из твоей прекрасной, чистой плоти взойдут фиалки».
Эти слова удивительно перекликаются с римской эпитафией с надгробия малыша Оптата, прожившего всего два с половиной года: «Молюсь, чтобы прах его стал фиалками и розами».
В широко разошедшихся по сети эмблематических гербариях обычно пишут, что фиалки в античности «были цветком смерти». Не совсем так: не столько смерти, сколько перехода, границы миров и состояний; в конце концов, весна — это тоже смерть зимы и неизбежное обновление. Фиалки у Гомера растут возле грота Калипсо, на дальней окраине упорядоченного космоса, откуда Одиссей никогда бы не выбрался сам. Фиалки и сельдерей, если перечислять всё, Жуковского, у которого «различные злаки», не слушайте, он переводит с немецкого подстрочника, раз, и вечно норовит Ирода переиродить, два, то бишь, в поэзии соперник.
Блестящий знаток античности, Шелли, в философской поэме «Королева Маб» — так сложно и умнó пишут лишь очень молодые — называет Фиалкой, Иантой, героиню, чей дух королева фей изымает из тела и переносит в небесные дворцы своей утопической страны, а потом возвращает к жизни с новым знанием. Умерла ли она? — Да, умерла, но восстанет вновь.
Так же шекспировские героини умирают и восстают, преображаясь для новой жизни. Стоит ли удивляться, что одну из них, умершую как девушка, чтобы на время стать юношей за утраченного брата, зовут Виолой, Фиалкой.
Неярким цветком — смутным, неясным, пребывающим в тени, но благоухающим так, что сердце сжимается, как от самой прекрасной музыки, как от любви.
Читать полностью…
Химера жужжащая
04 марта 2024 19:10
В Taccuino di disegni, лучшей из книг набросков в этой части Вселенной, Джованнино де Грасси отрисовал двадцать четыре буквы, гротескный алфавит, который все вы, конечно, видели не раз. Там звери кусают друг друга за уши, люди сражаются, пьют и кажут задницы, ангелы музицируют, олени мчатся от гончих по кругу буквы О, и ошалевший мужик держит на отлёте зелёную ящерь, не понимая, что с тварюшкой делать.
Что происходит в букве Н, я не знаю.
Угол листа залит, что держит за головой мужчина в кольчуге, не разберёшь, — морское чудо, хвост которого свешивается набок? щит с орнаментом? — почему женщина в зелёном так обречённо выставила руку, — отталкивает она, тянется прикоснуться, прощается? — что у неё в другой руке? Только белая собака понятна, только она просто сидит у ног хозяйки, бдительно поглядывая на всяких там, чтобы не покусились вдруг.
Не все истории дают себя рассказать.
Biblioteca civica Angelo Mai, Cassaf. 1 21, fol. 29v
Читать полностью…
Химера жужжащая
14 февраля 2024 17:26
Говорят, любовь, какой мы её знаем теперь, придумали авторы куртуазных романов в эпоху Средневековья. Эти авторы вообще были большими умницами — они сразу поняли, что без любви не складывается ни один хороший сюжет.
Если рыцаря не свести с Прекрасной дамой, он проведёт лучшие годы жизни либо в грабежах на большой дороге, либо в монастырской келье за попытками написать трактат по альтернативной истории. Обе дороги сойдутся в безымянном шатре на краю пустыни, где лишённый любви отшельник будет отмаливать свои грехи. И кому это надо?
Поэтому средневековые писатели придумали для нас любовь, и жизнь многих обрела хоть какой-то смысл. Тем и удовольствуйтесь. Не обязательно в этот коммерческий праздник. Так, вообще.
(Ладно, про Средневековье всё шутки. Любовь придумал философ Соловьёв в XIX веке, чтобы отвлечь молодых людей от строительства поганого социализма. Не всё получилось, но сама идея была хорошая).
Читать полностью…
Химера жужжащая
12 февраля 2024 10:53
Версальские реставраторы показывают в нельзяграме, как заново золотят Аполлона перед возвращением в фонтан на будущей неделе.
— Но как же золотые листочки останутся на месте, когда он окажется в воде? — спрашивают в комментариях.
— Золото не ржавеет и воду не пропускает.
Истина тривиальна, как говаривал один из братьев Шлегелей, поэтому надо повторять её почаще.
Читать полностью…
Химера жужжащая
04 февраля 2024 20:04
— Скажи мне, брат Альберик или, к примеру, Хризогон, — говорил, должно быть, в конце XII века настоятель французского монастыря монаху, расписывавшему поля сочинений Петра Ломбардского, — скажи, брат Эгидий или, на худой конец, Северин, зачем тебе рисовать сову в̶ ̶ч̶е̶т̶ы̶р̶е̶ ̶ш̶а̶г̶а̶? У тебя пост и послушание, тебе Кассиодор что велел?
И, видимо, тыкал брата Альберика или Эгидия тяжёлым аббатским перстнем в затылок. Но брат Хризогон, Северин, да хоть вообще Дезидерий только опускал голову к пергаменту и думал про себя: а сову эту мы разъясним. Сова никак не получалась, он стирал её и рисовал заново.
От брата Альберика не осталось и косточек, а сова вот она, восемьсот с лишним лет спустя.
BNF Département des manuscrits, Latin 14267, fol. 34r
Читать полностью…
Химера жужжащая
02 февраля 2024 10:42
Мы продолжаем продолжать — теперь и в Москве. Очередная глава шекспировского бестиария, спешите регистрироваться!
Читать полностью…
Химера жужжащая
17 января 2024 17:42
Немного Генделя сегодня.
Читать полностью…
Химера жужжащая
10 января 2024 22:37
Те самые мальчишки из правого нижнего угла картины Сандредама и нарисованный на стене конь Байард.
Читать полностью…
Химера жужжащая
06 января 2024 20:42
С Рождеством.
Этим колоколам шестьдесят с лишним лет, дед привёз из Германии, где работал хирургом в госпитале.
Они сохранились — всем нам того же.
Читать полностью…
Химера жужжащая
27 декабря 2023 15:18
Феникс, вторая часть.
Читать полностью…
Химера жужжащая
24 декабря 2023 16:33
Не то чтобы мир рухнет, если я этого не сделаю, но уже много лет я вывешиваю в Сочельник рождественские миниатюры. В знак того, что вижу звезду — даже если она, как сегодня, скрыта пасмурью и туманом.
Французская Псалтырь второй половины XIII века.
BNF Département des Manuscrits, Smith-Lesouëf 20, fol. 9v
Вижу звезду!
Читать полностью…
Химера жужжащая
22 декабря 2023 00:41
Немного йольского ветра от мэтра Марэ и любимого профессора Саваля. "Дни Альционы" — это обычно затишье, чтобы зимородок высидел птенцов, но наше солнце умирает с музыкой.
Читать полностью…
Химера жужжащая
31 марта 2024 10:35
Между тем, наступил День обнимания медиевистов. Если у вас есть под рукой медиевист, обнимите — вот как Гвиневра Ланселота на миниатюре из сборника рыцарских романов.
Bibliothèque de l'Arsenal, 3479 f. 484
Читать полностью…
Химера жужжащая
28 марта 2024 20:23
Всякий пишущий о переводе рано или поздно вынужден будет признать: размер имеет значение. Размер лексических единиц, длина слов, проще говоря. Хрестоматийная история про Бунина, который переводил "Песнь о Гайавате" и жаловался, что русские слова слишком длинные, не лезут в строку все, сколько надо, и Бельского, который переводил "Калевалу" и жаловался, что русские слова слишком короткие, не хватает на строку, как раз об этом. Напомню, что метрически "Гайавата" и "Калевала" идентичны, — если спросите, откуда эти сказки и легенды; мне пришло одно желанье, я одну задумал думу — просто один текст в оригинале по-английски, а второй по-фински.
С английским беда бунинская, английские слова в среднем короче русских, поэтому при переводе поэтического текста, если это не верлибр, приходится играть в вечный тетрис, плотнее укладывать слоги, экономить место. Эффекты порой возникают неожиданные, например, переводчики на русский очень любят передавать вполне нейтральное английское darkness словом "тьма", получается избыточная экспрессия, а делалось-то ради освобождения ячеек в строке; так вышло, в частности, со стихотворением Байрона, он вообще по-русски куда более байроничен и наряднее кутается в романтический чорный плащ, чем в исходнике.
В случае с Darkness (1816) это особенно заметно, потому что при всей апокалиптической образности и безысходности Байрон обезоруживающе прост в средствах. Оно и понятно, он стремится к библейскому звучанию, а Библия для него как для англоговорящего — это прежде всего Библия короля Иакова, текст по-шекспировски как-бы-простой, все слова разговорные; вот как вода проста, но поди её получи без огня.
Подробно русские переводы этого стихотворения Байрона разбирал и сравнивал Сергей Сухарев, интересующихся с лёгким сердцем отсылаю к его статье, а сама приведу только несколько вариантов перевода финала. У Байрона картина гибели мира завершается окончательным торжеством темноты:
And the clouds perish'd; Darkness had no need
Of aid from them — She was the Universe.
И облака погибли. Темноте не нужна была их помощь — она была Вселенной.
Первый поэтический перевод Darkness на русский — до этого текст Байрона пересказывали прозой — сделал в 1828 году Михаил Вронченко; он и "Гамлета" первым перевёл, что уж. И решение нашёл великолепное:
Погибли тучи — мрак уж и без них
Непроницаем был и повсеместен.
Так красиво Вронченко ушёл от выбора между нейтральной "темнотой" — а darkness Байрона это именно она, хотел бы возвышенно-небытового, написал бы the dark, это в английской риторике принято — и высокопарной "тьмой". Лермонтов свой прозаический перевод озаглавит "Мрак. Тьма", словно взвешивая, что лучше. Но "тьма" в итоге возобладает и лексически.
В переводе Тургенева, который для нашей традиции почти равен по значению оригиналу:
Исчезли тучи... Тьме не нужно было
Их помощи... она была повсюду...
Многоточий таких у Байрона, конечно, нет, это уже произвол переводчика.
У Михаловского:
Погибли тучи, — не нуждалась тьма
В их помощи: она была Вселенной.
Минаев вспоминает Вронченко, но всё-таки тоже выбирает "тьму":
И туч не стало; мрак вставал отвсюду:
Весь мир был тьма, и тьма была всем миром.
У Вейнберга тоже "тьма":
И облака пропали; бесполезны
Они для тьмы; — а ею был весь мир.
У Каленова:
...исчезли тучи –
Тьма не нуждалась в помощи их слабой.
Весь беспредельный мир объят был тьмою.
И в переводах ХХ века тоже повсеместная "тьма".
У Зенкевича:
Пропали тучи. Не нуждалась Тьма
В их помощи – она Вселенной стала.
У Кузнецова:
Погибли облака; Тьма не нуждалась
В их помощи – Она была Вселенной.
У Степанова:
Ни облаков – и не было в них нужды
Восставшей Тьме – Она была Вселенной!
И, наконец, у Сухарева и Шик:
Не стало туч, но не было в них нужды —
И всю Вселенную объяла Тьма.
Очень сложно по-русски впихнуть в одну строку "вселенную" и "темноту". Да и "темнота" кажется какой-то недостаточно тёмной, не проберёт читателя, не ощутит он всего драматизма гибели мира.
Читать полностью…
Химера жужжащая
11 марта 2024 09:29
Калининградская областная научная библиотека выложила запись разговора о птицах. Я там упорно говорю "на восток" вместо "на запад", — раньше путала только право и лево, теперь ещё и стороны света, приехали — но про птиц всё складно.
Читать полностью…
Химера жужжащая
06 марта 2024 15:11
Родной Музей краеведения, отрада души моей.
Из газеты «САРАТОВСКАЯ ЖИЗНЬ» («САРАТОВСКАЯ КОПЕЕЧКА»)
6 марта 1914 года
Местная жизнь. Живой футурист. Вчера к нам в редакцию пожаловал настоящий живой футурист – Василий Каменский. Молодой человек довольно красивый блондин. Бритое лицо, вьющиеся волосы. Коричневая пиджачная пара, пальто с меховым воротником, - словом внешность, не заключающая в себе ничего экстраординарного. Не кусается и не бранится. Ругнул, правда, слегка местных лже-футуристов.
отсюда
Читать полностью…
Химера жужжащая
19 февраля 2024 18:16
К вопросу об источниках одной популярной цитаты.
Из газеты «САРАТОВСКАЯ ЖИЗНЬ» («САРАТОВСКАЯ КОПЕЕЧКА»)
19 февраля 1914 года
Леонид Андреев находится теперь в Венеции, откуда едет в Рим. Писатель старается восстановить здоровье полным отдыхом и в путешествии даже не читает русских газет.
отсюда
Читать полностью…
Химера жужжащая
13 февраля 2024 14:25
Дорогие все,
все ранее анонсированные мероприятия с моим участием в ближайшие две недели отменяются.
Прошу простить, о дальнейшем сообщу.
Читать полностью…
Химера жужжащая
09 февраля 2024 20:36
прекрасная Ящерь -
- прямо сейчас -
- в областной научной библиотеке -
- о птицах
Читать полностью…
Химера жужжащая
02 февраля 2024 12:08
16 февраля в 18:30 РГБИ приглашает на очередную встречу с литературоведом, переводчиком, филологом Екатериной Ракитиной из цикла «Шекспировский бестиарий»
В этот раз поговорим о медведе. Зверь свирепый, слабый головой, но необычайно изобретательный в причинении вреда и неспособный устоять перед своими слабостями — таким Европа видела медведя со времён античности. С ним боролись библейские цари и легендарные короли, его короновали и превращали в шута, он служил эмблемой порока и украшал собой гербы знати.
О том любят ли медведи мед, сосут ли лапы, о том, что связывает медведя со львом, об отношениях медведей со святыми, о медведях-знаменитостях и русских медведях поговорим в очередной лекции цикла «Бестиарий Шекспира: Медведь».
Вход свободный по предварительной регистрации: https://rossiyskaya-gosudarstvenn.timepad.ru/event/2761660/
Читать полностью…
Химера жужжащая
30 января 2024 11:02
А мы продолжаем.
Читать полностью…
Химера жужжащая
16 января 2024 19:19
И снова о непереводимом.
"Она играет со мной в прятки", — говорит у Фаулза Бресли про незаконченную картину; в нашем переводе "Башни из чёрного дерева" говорит, разумеется. В оригинале, "She's playing coy with me". Кокетничает она, изображает скромницу, она уклоняется, ускользает, стесняется... не даётся, одним словом. Coy, от старофранцузского coi, ранее quei "тихий, неподвижный, мирный, мягкий", восходящего к латинскому quietus "тихий, спокойный, мирный, миролюбивый" и т.д.
Самое известное в английской литературе coy — у Эндрю Марвелла, в середине XVII века, To His Coy Mistress, столь же блистательный, сколь и непереводимый образец поэзии carpe diem и высшего метафизического пилотажа, где и иронический танец с каталогом готовых образов, и склепы с червями, и соколиное пике жажды быть, здесь и сейчас, сотрясающей кровь частым боем и горящей на губах. Вырвем наслаждение сквозь железные ворота жизни, пусть солнце не остановить — заставим его бежать.
Будь у нас довольно времени и мира, начинает Марвелл — не будь человеческое так ненадёжно и кратко, этот покой, этот прохладный мир в уме, который то ли из чувства приличия изображает дама, то ли он и в самом деле осеняет её, не был бы преступлением. Но поглядеть на этот текст внимательнее, он пересоберётся и выстроится от противного: чистота и неизменность живут за пределами человеческого века, оттуда они наведываются в наше лихорадочное бытие, недосягаемые, не уловимые вполне... здесь слишком много не, но как определить то, что и есть вечное отрицание, ускользание, не столько цель, сколько расстояние, отделяющее тебя от неё?
Таинственный и чудный олень вечной охоты, гриновское несбывшееся, сияющее над мачтами пришвартованных кораблей. Вечно неподвижно бегущий в точку схождения и исчезновения светлый олень Уччелло с другой картины, которая всё не даётся, playing coy. Знаешь про неё всё: про расчерченный для выстраивания перспективы на шахматные клетки почвенный горизонт под лесной подстилкой, про красные и жёлтые тона на белом грунте, синий на чёрном, зелёный на золоте... просвеченная и описанная кембриджской материальной наукой, она всё равно остаётся на том, другом берегу, где правят слова да знаки, порождения ума, а не природы.
Бесконечное ускользание, уклонение, погоня, которой не суждено не то что конца, не суждено продолжения, она застыла, дразня подобием осязаемой жизни, которой нет — и не было, и не будет. Олень, hart, как его зовут в этих краях, так созвучный с беспокойным сердцем, пылает в ночи, словно замочная скважина в двери, за которой свет; она никогда не откроется. Никогда не залают собаки, навеки взлетевшие в прыжке, не закричат загонщики, распялившие рты, не оглушат зрителя треск ломающихся веток, тяжёлый ход коней, охотничьи рога и частое дыхание. Coy в пределе своём есть не жеманное уклонение от объятий, но тишина.
Будь у нас довольно времени и мира, будь у нас время, будь у нас не время, но непомышляемая его противоположность, мы сидели бы у реки, у чистой воды, бег которой ничего не значит, и думали, чем занять свой долгий день. И олень Уччелло, ясный зверь с мягкими губами, лежал бы рядом среди цветов, невредимый, ничего не боящийся, больше не дичь и не добыча никому.
Читать полностью…
Химера жужжащая
10 января 2024 22:36
Году в 1644 Питер Янс Сандредам написал для кого-то из своих благочестивых заказчиков "Интерьер церкви Бууркерк в Утрехте". К работе художник подошёл основательно, сохранилось целых восемнадцать набросков, на которых изображены разные фрагменты интерьера, — а сколько их было всего, и подумать страшно! — один, созданный в 1636 году, сделан примерно с той же точки, с которой написана картина; от двери в северном фасаде, на юго-запад.
Обычно Санредам тщательно замерял объект, буквально лазал по нему с линейкой, но в случае с Бууркерк чуть погрешил простив достоверности: колонны у него вытянуты по вертикали для эффекта, так пространство выглядит величественнее и светлее.
Бууркерк, или Малая церковь Богородицы, как её называют, чтобы отличить от коллегиальной церкви Утрехта, стоит в паре сотен метров от кафедрального собора. Это самая старая из четырёх приходских церквей города, строили её с XIII по XV век, и строили, разумеется, как католический храм, то есть, внутри она была богато и ярко расписана. Но к середине XVII столетия голландцы давно и прочно приняли протестантизм, и церковь лишилась богатого убранства, а росписи были замазаны побелкой — о душе надо думать, а не на картинки глазеть.
Впрочем, у Сандредама постная скудость интерьера разбивается парочкой мальчишек в правом нижнем углу: один играет с собакой, а второй пишет на стене — очень остроумно подпись художника выглядит его же произведением, граффити на белёной поверхности. Рядом кто-то, возможно, тот же хулиганистый мальчишка, нарисовал коня с четырьмя всадниками, про которых любой сетевой ресурс добродетельно сообщит, что это сыновья графа Эмона (Аймона) верхом на легендарном коне Баяре, или Байарде, персонажи популярнейшей жесты, впервые записанной в XII веке. Недавно, когда куратор детских образовательных программ лондонской Национальной галерее, в собрании которой и хранится нынче картина Сандредама, Эд Дикенсон, рассказывал об этом фрагменте в нельзяграмме, комментаторы гадали, что бы он мог означать: десакрализацию? оживление интерьера? указание на то, что лишь ставшие, как дети, войдут в царствие небесное?..
Читать дальше.
Читать полностью…
Химера жужжащая
01 января 2024 18:31
Дорогая калининградская читательница, — простите, что не спросила, как вас зовут, после лекции была немножко не в себе — ваш подарок украшает мою ёлочку, да и жизнь мою тоже, изрядно.
Спасибо!
Читать полностью…
Химера жужжащая
25 декабря 2023 16:28
В новый солнечный год — с вечными ценностями.
Словарь Даля, всегдашняя моя погибель: пойдёшь что-нибудь уточнить, очнёшься от запаха сгоревшей на плите еды. Пример к статье "таракан", как всегда из пословиц и поговорок:
Не видала Москва таракана!
Читать полностью…
Химера жужжащая
24 декабря 2023 14:22
Когда складывалась традиция отмечать сезонные праздники, человечество считало сутки от заката до заката — сложно привязываться к полуночи без часов. Отсюда "кануны" у старых праздников: Вальпургиева ночь, Хеллоуин как канун Дня Всех Святых и оба сочельника.
Так что с закатом уже наступило завтра — и Рождество по григорианскому календарю, и Sol Invictus, и новый солнечный год. Утром встанет воскресшее солнце, колесо повернулось.
По этому поводу вывешу одну из рождественских кантат любимейшего моего Телемана. Нет ничего лучше ликующих барочных труб, чтобы праздновать, и финального хорала, чтобы шагнуть в новое.
Читать полностью…
Химера жужжащая
21 декабря 2023 13:36
Нынче с закатом солнышко спустится в самый тёмный подпол года и к утру, к 6.27 по Москве, там умрёт. И пролежит мёртвым три дня, после чего воскреснет с восходом 25 декабря, в тот самый праздник Sol Invictus, Непобедимого Солнца, который многие зачем-то поминали на летнее солнцестояние; нет, не тогда. Солнце умирает и родится зимой, здесь, у нас, его дом, а в это ваше лето оно уходит уже подросшим и окрепшим, чтобы заново износиться, вымотаться и вернуться к маме.
Так что не надо завтра радоваться, что день начнёт прибавляться — не начнёт. Он прибавит первую минуту только в понедельник, а до тех пор мы вступаем в безымянные дни, пересменку года, трёхдневную паузу между систолой и диастолой мирового сердца.
Время зажигать живой огонь, завершать то, что должно быть завершено, разбирать завалы, наводить порядок — время заглянуть в себя и понять, что оставляешь по эту сторону, что берёшь на ту. Колесо поворачивается, можно угодить под него, а можно двигаться с ним дальше. Остановить нельзя, но нам дают три дня, чтобы всё обдумать и понять.
Главный подарок года.
И прекрасный Франческо Бальзамо, очень в настроение.
Читать полностью…
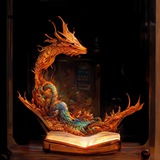
 9459
9459